
Бережность артикуляции. Янис Авотиньш
Интервью с латвийским художником, чьи выставки в основном проходят за границами его страны
16/11/2017
Этой весной посетителям выставки «Странники в пространстве времени» в Мукусальском художественном салоне предоставилась редкая возможность – увидеть в Латвии работы Яниса Авотиньша. Хотя художник живёт и работает в Риге, чаще всего его картины и скульптуры можно посмотреть лишь на выставках за рубежом. В тот раз из-за занятости художника мои попытки встретиться и поговорить с ним закончились обменом вопросами и ответами по э-почте: в связи с выставкой Янис Авотиньш рассказал, что продолжает работать с найденными старыми фотографиями, картинками из газет советского времени, техническими архитектурными чертежами, однако это – не уникальные находки, и это – не ностальгия, а просто «материал, с которым я могу/разрешаю себе работать». В последние годы художник ищет образы, однако делает это «ни как коллекционер, ни с академическим подходом. Отбор и поиски проходят кампаниями и организуются в соответствии с уровнем открытости культуры их происхождения», а также с учётом того, что именно художник хотел бы сохранить. На мой вопрос, пишет ли он картины ежедневно, Янис ответил: «Нет, потому что живопись или любая другая активная рефлексия для меня не ремесло, не медитация, не тренировка, не одержимость, не обязанность, не выполнение обязательств. Стоило бы рисовать ещё реже, чем не каждый день».
Были ещё и другие вопросы и ответы, но в конце концов через какое-то время мы договорились об очной встрече. Это произошло, когда художник вернулся в Ригу из Лос-Анджелеса, куда он отправился, чтобы принять участие в открытии выставки «Damage Control» в галерее Ibid. На ней картины Авотиньша были выставлены вместе с работами Жана-Мишеля Баскии, Яёи Кусамы, Роберта Лонго, Ли Уфана, Энди Уорхола и других выдающихся мастеров искусства со всего мира.
Ближайшие выставки, к которым Янис Авотиньш готовится в настоящее время, пройдут в галерее Vera Munro в Гамбурге с 15 декабря, в галерее Ibid в Лос-Анджелесе с 15 января и в галерее Vartai в Вильнюсе с 13 февраля.
С галереями Ibid (Лондон/Лос-Анджелес) и Vera Munro художник сотрудничает уже многие годы, также его выставки регулярно проходят в галерее Akinci в Амстердаме и галерее Rüdiger Schoettle в Мюнхене. Работы Авотиньша находятся в частных и общественных коллекциях по всему миру, в том числе – в коллекции Франсуа Пино, в фонде Sandretto Re Rebaudengo, Rubell Family Collection, Cranford Collection, Hort Family Collection, в Коллекции современного искусства Германии, а в Латвии – в Национальном художественном музее и в коллекции Зузансов. В прошлом году имя Авотиньша на международной арт-сцене прозвучало ещё громче, когда он получил в Париже престижную Премию Jean-François Prat, которая ежегодно присуждается кому-то из молодых живописцев мира.

Янис Авотиньш. Penumbra IV. 2016. Холст, масло. 111 x 103 см
К твоему интервью в онлайн-версии издания «Kultūras Dienā» был комментарий о слишком сложной манере выражения – кто-то тебя не очень понял.
Хорошо, будем говорить проще.
Это вообще актуальная тема – язык искусства уже и так не слишком понятен «простому зрителю», а этот комментатор говорит – если я не понимаю того языка, на котором в буквальном смысле говорит художник, как же я тогда пойму его работы? Тебе вообще важно, чтобы твоё послание было понято?
(Задумывается надолго.) Знаешь, значение отдельного голоса как такового изменилось. В моём случае это – не какой-то выдуманный концепт. Сегодня существует миллион художников, и у каждого свой голос – людям предоставляется слово, свобода выражения в культуре глобально акцентирована. Нам это нравится, потому что это предоставляет известную свободу и возможность самому выбрать свои границы и лимиты, однако, как сказал [Борис] Гройс, теперь все пишут, но никто не читает. Меняется также и то, чем является «высокое» искусство (если таковое вообще существует). Формы выражения становятся комплекснее, сложнее, но в то же время коммуникация через отдельное произведение может не быть направленной на какое-то неопределённое глобальное бормотание, когда все говорят одновременно. Есть также отдельная позиция каждого художника – что он хочет передать другим и что для него важно. Важно ли для него, чтобы работа коммуницировала с банальностями масс-медиа, или он создаёт её для пяти друзей, которые являются своего рода коммуной, вполне понимают друг друга и для которых неважны отзывы остальных. Можно коммуницировать и с теоретическими нарративами – они могут быть конвенциональными, но они могут также быть и очень левыми, совершенно новыми, созданными только вчера, о которых всё равно никто ещё не знает. Например, если ты коммуницируешь с очень элитарной группой теоретиков, которые работают в каком-то незарегистрированном институте, потому что их цель – не манифестировать свои наработки, а продолжать работать над важными для них вещами. Всё это длинное предисловие подводит к вопросу, есть ли вообще такой художественный язык, который был бы полностью открытым, универсальным, демократическим и впечатлял бы всех достаточно ясно и уверенно?

Янис Авотиньш. –. 2009. Холст, масло. 23 x 18,3 см. Коллекция Зузансов
Однако в то же время мы работаем над какими-то вещами, чтобы получить результат. Если это никогда не будет манифестировано, то, может быть, у этого просто нет смысла?
В нынешнем экологически невероятно напряжённом мире действительно проблема смысла выходит на передний план. В сущности, главный вопрос теперь – что можно не делать или как продолжаться и выживать, по возможности делая как можно меньше? Ведь необходимо развиваться, иначе наступает стагнация. Если развития не происходит, общественные группы или индивидуумы становятся деструктивными по отношению друг к другу и не способными двигаться, но ведь движение само по себе – это то, что каким-то образом делает вещи более заметными и живыми и позволяет развивать свежий взгляд на них. Значит – не делать нельзя. Неделание означает то, что ты создаёшь какую-то среду, в которой просто растут грибки. Хрупкая природа смысла – где-то посередине, к тому же уже невозможно и найти некие большие коммуны, для которых годится всего лишь один смысл. Хотя мы по-прежнему живём в парадигмах, которыми руководят представления об универсальных знаниях, ценностях, архивах, где есть какие-то чёткие номиналы, которые мы очень конкретно используем, и тогда они каким-то очень ясным образом взаимодействуют с нами в плане обратной связи. В ХIХ веке ещё существовали понятные системы, как всё функционирует, кто что делает, а потом пришла революция и сделала то, что и привело нас к дню сегодняшнему.
Поэтому и моя художественная практика, в сущности, как бы базируется на пассивности – я использую те ресурсы и обстоятельства, которые мне предоставлены, и не занимаюсь построением утопий. Я понимаю, что есть вещи советского времени, которые в своём роде повлияли на меня, на моё мышление. И школы, в которые я ходил (я чувствую, как они меня ограничивают), и мои личные обстоятельства – психика, характер и т.д. Можно пытаться преодолеть их, а можно применить экологический подход – какой-то суперлокальный взгляд: соединить все эти элементы в некую эффективную цепь, не засоряя мир, но сохраняя то, что могло бы продолжить движение. Короче говоря, я работаю с материалами, не представляющими ценность сами по себе, но они были важными для меня лично – и в процессе роста воображения, и как элементы культуры средств массовой коммуникации. Конечно, при таком подходе стоит опасаться слишком выраженной субъективности и саморефлексии в том, что кажется важным только мне.
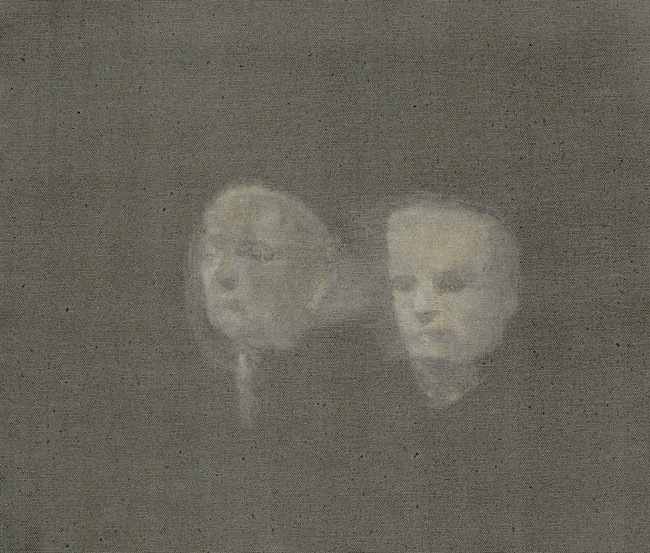
Янис Авотиньш. –. 2011. Холст, масло. 39,8 x 44 см. Коллекция Зузансов
Материалы, которые ты используешь в своих работах, зачастую являются прямыми откликами на советскую эпоху. Это – опыт, который связан с каким-то этапом твоей жизни, но, например, коллекционеры на Западе, ценящие твои работы, – у них ведь такого опыта нет, и, вероятнее всего, они не способны идентифицироваться с ним. И всё-таки в твоих работах их что-то трогает.
Я просто описываю механизм, как это действует. Это совершенно не связано с интерпретацией произведения, с тем, как надо читать произведение. Я как раз хочу, чтобы оно была свободно от контекстуальной нагрузки. Это интересовало меня с самого начала.
Если мы вернёмся к началу разговора – когда кто-то говорит, что баланс между произведением и его пояснением лабилен и не работает, я могу ответить только то, что каждый обитает в своём векторе культурно-временного пространства, в котором наличествует тот или иной опыт, есть какие-то продолжения. Поэтому тут нет необходимости искать универсальный ответ.

Рисунок Яниса Авотиньша. 2014. Бумага, графит. 13 x 8 см. Фото: Янис Авотиньш
По-моему, всё-таки важно то, что художник находится в поиске диалога со зрителем.
Если мы осознаем, что желание зрителя что-то увидеть – это его занятие, его работа, а моя работа – само художественное произведение, то тут встречаются два рабочих процесса. Было бы честным, если бы вклад каждой стороны был 50/50. Я выполнил свою часть, а насколько вложился ты? В любом случае, если вклад одной из сторон не приближается к 50, с коммуницированием наверняка будут сложности.
Художественные практики и язык в искусстве очень сегментированы – кто-то хочет коммуницировать со специфическими теоретическими новыми нарративами, и там соотношение вкладов 50/50 очень существенно, поэтому он уже заранее знает, кто будет его понимать, а до остальных ему дела нет. Он будет коммуницировать именно в этом направлении, но есть и своего рода антипод – так называемое популярное искусство, например, Мураками, Рихтер, да и Целминя (они оперируют общеизвестными образами, но с другой стороны – тут также могут появиться известные сложности в коммуникации). Если посмотреть на индустрию развлечений, то там эта идея радикализирована до той степени, чтобы ты прилёг, открыл рот, а тебе туда всё просто заливали – такое сладкое пойло, которое тебя опьяняет, шокирует, даёт эмоциональное потрясение, но оно действует непродолжительно, оно проходит, тебе нужна следующая порция. Это вечная дилемма: насколько глубоко включаться в какие-то вещи.
В то же время человеку, который готов вложить действительно много от себя, может быть, и не нужно никакого внешнего художественного произведения, он просто располагается внутри потока и сам себе организует захватывающий художественный опыт.
Например?
Вот этот фасад на противоположной стороне (показывает через окно на здание) – большинство тех, кто здесь находится, почти ничего не смогут о нём сказать, но, возможно, если пойти в архив, можно было бы узнать, почему для этого фасада использованы именно эти паттерны, почему они находятся именно в этом городе, почему использованы именно такие размеры окон, такие пропорции, цветовая тональность и т.д. Это можно сделать, исследуя любую вещь вокруг себя или в себе самом – будь то телесное или интеллектуальное. Ты сам можешь для себя организовать поэтический опыт, если приложишь достаточно усилий. Это и есть упомянутое Гройсом написание и чтение – то, что стало каламбуром коммуникативной реальности. Ты можешь одновременно писать и читать. Другое дело – если хочется что-то манифестировать, сохранить, какое-то осознание миссии.
Не так уж и много тех, у кого есть это сознание миссии. По-моему, наше время настолько поверхностно, что людям не кажется важным во что-то углубляться.
Да, и при том каждому хотелось бы, чтобы все углубились в него. Поэтому все и пишут, но никто их не читает, потому что ни у кого нет времени.
Но своего рода небольших коммун по-прежнему очень много – и в академической среде, и в религиозной, и в политической или протестной культуре. Там производят если уж не миссии, то по меньшей мере какие-то специфические конституции, причём с той целью, чтобы они являлись какими-то новыми apparatus, которые, если их употреблять определённым образом, могут служить катализаторами, механизмами создания добра. Сложные глобальные смешанные городские культуры – там раскрывается безграничное поле того, что требует решений.
Я слушал Гедиминаса Урбонаса, который ведёт подкаст программы искусства, культуры и технологии MIT [Массачусетского технологического института]. Он в своей художественной практике выбрал весьма социоантропологический фокус, потому что в этой сфере наблюдается наибольшая активность. Как только ты обращаешься к таким проблемам, аспектам, сразу же ощущается очень сильная обратная связь. Манифестация объектов или их формирование, которое не служит каким-то инициатором социальных движений, влияющих на конкретные группы в конкретном месте, вообще интересным не представляется. Я в своей работе не озабочен социоантропологическим контекстом; по правде говоря, я не верю этому направлению. Я верю силе образа и тому, что всех нас направляют образы в движении.

Янис Авотиньш. Ничего из ничего. 2008. Холст, акрил. 326 x 580 см. Коллекция Зузансов
В интервью «Kultūras Dienā» ты сказал, что на самом деле люди не способны оценить медленно происходящие явления.
Да, потому что они, во-первых, выглядят неподвижными. Возможно, что одна из примет ускоренной культуры, которая сегодня, по-моему, доминирует, такова, что внимание обращается лишь на одну вещь в какой-то отрезок времени. Для чего-то это, возможно, является идеальным подходом. Иногда даже кажется – в духе теории заговора – что какая-то очень большая, сильная PR-компания организует глобальное, привлекающее внимание событие, чтобы на его фоне кто-то мог выполнить какие-то совсем другие, возможно, имеющее более решающее значение или же просто непрозрачные, тёмные делишки.
Как, например, миграционная волна в Европе?
Да, и все медиа только об этом и говорят, а тем временем происходят и другие вещи. Медленная культура способна долговременно параллельно растить какие-то вещи и наблюдать за ними. Спокойно культивировать их, при этом не ограничивая свободу других, потому что это проблема даже большего масштаба – как в условиях свободы выражения не ограничивать свободу других людей? Все публичные платформы в этом отношении просто утомляют. Фейсбук, например, открывать больше невозможно, потому что он очень чётко сегментирован: во-первых, он стал настоящим новостным порталом, а во-вторых, он служит для того, чтобы выражать политические манифестации. Вот этими двумя вещами люди и занимаются и в обоих случаях ничего особо важного от этой платформы не приобретают, ведь, очевидно, что всё равно необходимо чрезвычайно большое усилие, чтобы всё это упорядочить, рассортировать и просмотреть. Как будто бы тебе предоставляют сравнительно глобальный подход, но у тебя нет ресурса такого же глобального масштаба, чтобы им действительно воспользоваться.

Рисунок Яниса Авотыньша. Фото: Milan Krastev
Как ты сам пользуешься своим ресурсом – что оставить, а что выбросить из того, что тебе предлагают?
Если мы говорим о Фейсбуке, то я его не использую как источник новостей. Что касается манифестации каких-то ценностей, неизвестно почему, но всё равно приходится возвращаться к художественным произведениям, в лучших примерах которых всё-таки есть существенный временной вклад.
В действительности, такая платформа с таким потенциалом свободы дикарям модерности не нужна. Если в тебе есть хороший редактор, ты уже в какой-то степени художник. Потому что хороший художник политически наиболее стабилен – там будет очень ясный язык, артикуляция, тебе надо будет следовать за тем, что было до того, потому что ты не можешь каждый день говорить что-то другое, если только это не твой концепт. Художник формирует коммуникативную последовательность.
Произведение искусства в каком-то смысле вневременно. Его расположение также не очень зависит от внимания потребителей ускоренной культуры, которое всё время скачет от одной темы к другой. Оно автоматически коммуницирует со средой, являющейся иммунной ко всем этим капризным жестикулированным выходкам – каким образом в каждый подходящий момент отманифестировать свой наскоро испечённый импульс или выдуманную самобытность.
Я вообще думаю, что очень ценно размышлять о коллективной памяти, которая как будто означает возможность быть ближе к тем вещам, о которых ты спросила вначале, – кто мог бы коммуницировать со всеми одинаково эффективно? И если ты спрашиваешь о коллекционере, который вырос в совсем другой культуре, например, где-нибудь в Майами, и который ценит мою работу, то мне нравится идея, что искусство более или менее всегда фольклористично. Если это искусство феноменологически сильное и чистое, то художественное произведение конвертируется глобально; однако если фольклорная часть перевешивает, тогда работа будет считываться в большей степени локально. Например, можно было бы выстроить работу на базе сельского хутора, где осталось только трое столетних стариков, которые знают очень местные, локальные вещи, никому в другом месте непонятные. И точно так же успешно уже в таком масштабе, как Латвия, можно концептуально сконструировать работу, которая будет коммуницировать только в латвийской среде.

Янис Авотиньш. Без названия
У меня сложилось впечатление, что большая часть латвийского искусства как раз коммуницирует только локально.
Мне кажется, что просто прекрасно то, что ни первая, ни вторая, ни третья концепция не являются ни хорошими, ни плохими. Я думаю – отлично, если это получается осознанно. Мне кажется, что в Латвии слишком много всего ставится на ассоциативные и неопределённые надежды с мыслью, что если художественный образ будет очень заряженным, то он, может быть, конвертируется глобально. Однако чаще неопределённость работает в противоположном направлении. Или же образ конвертируется как мистический, что тоже может быть интересным. Мои работы тоже часто балансируют на этой границе, но одновременно я хочу работать с документальными материалами. Я их добываю из всех прямых контекстов, референций и вставляю в работу, и тогда довольно часто у зрителя пропадает связь с откликом на конкретную культуру. Мне всегда нравилась та зона риска, в которой присутствует неизвестное, мистическое, когда ты ясно осознаёшь элементы, которые тут работают, взаимодействуют и поддаются обозрению, но параллельно ты явственно ощущаешь, что это ещё не всё. Так же, как в фильмах Вернера Херцога 1970-х и 1980-х годов – там всегда присутствует реализм, ты видишь, что всё сложено очень понятно, как на театральной сцене, но в этой констелляции реализма всегда резонирует мистическое, пределы осознания сегодняшнего и незнание самого ближайшего будущего.

Рисунок Яниса Авотиньша. 2012. Бумага, графит. 8 x 13 см. Фото: Янис Авотиньш
А ты охотно читаешь, выслушиваешь комментарии к своим работам?
Я очень редко получаю персональные отзывы от коллекционеров, но вот недавно в Лос-Анджелесе ко мне подошёл какой-то двухметровый господин и из него полился поток впечатлений от моей работы.
Да, он купил её уже давно, и очень хотел встретить меня и рассказать, что он думает о ней. Но это очень, очень редкий случай, может быть, раз за год. Можно было понять, что то, что его так тронуло, была бережность артикуляции.
Бережность артикуляции?
Да, а не, например, нарратив. Все говорят, что рассматривание моих картин требует времени – работы побуждают вновь и вновь возвращаться к их рассматриванию. Ещё я слышал, что про мои работы говорят – сколько бы ты к этой картине ни возвращался и ни смотрел на неё, вспомнить её потом невозможно.

Работы Яниса Авотиньша на выставке «Странники в пространстве времени» в Мукусальском художественном салоне. 3.02.2017–11.03.2017. Фото: Кристине Мадьяре
Ты обращался и к скульптуре – скажем, на выставке «Странники в пространстве времени» в Мукусальском художественном салоне была выставлена твоя скульптура. А ты сам её делал?
Да, сам, исключая техническую сторону, которая относится к литью бронзы и др.
Ты создавал скульптуры и раньше?
Да, примерно в 2007–2009 годах. У меня была выставка в Цюрихе, где скульптуры составляли половину всех работ, там были скульптуры масштаба примерно A3, а также другие – очень маленькие, сделанные из угля. В эстетическом отношении они были созданы как отзыв на архитектуру брутализма...
В любом случае работа со скульптурой для меня – не новое дело. Вот и сейчас я работаю над скульптурной серией, в качестве источника которой я использую образы, портреты, лица советской иллюстрации в суровом стиле
Значит, бывает, что ты записываешь идеи в блокнот.
У меня много блокнотов. Но, как показывает мой опыт, количество блокнотиков и записей в них не коррелирует ни с производительностью, ни с качеством.
Так ты поэтому писал мне, что тебе вообще следовало было бы рисовать меньше?
Да-да, конечно. Ты думаешь, мне все мои работы нравятся? Конечно же, нет. Я не выпускаю из мастерской работу, в которой я не уверен.
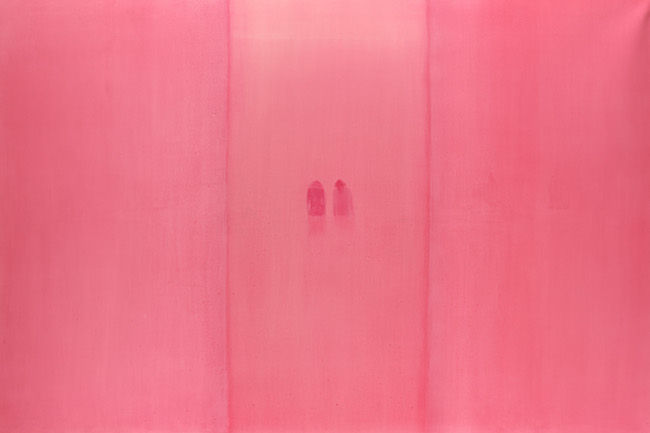
Янис Авотиньш. Без названия. 2014. Холст, акрил. 180 x 270 см. Коллекция Зузансов
Над чем ты в настоящий момент работаешь?
Одна сфера – это моя практика как художника, но есть ещё и вторая, которая меня захватывает. Мне кажется, что домашняя работа мировой свободы выражения выполнена, и искусство больше не является актуальным вопросом для общества. Нет ничего, за что надо было бы бороться, всё происходит само по себе: каждую неделю открываются новые музеи, часть их них – индустрия развлечений, часть связана с верой, часть – с туризмом. Но у меня была идея о создании микроакадемии. У меня есть такого рода опыт, в своё время я преподавал в Латвийской Академии художеств, и я понимаю, что в образовании не хватает специфического внимания к студентам. Конечно, есть разные методы и процессы преподавания – лекции или семинары, но если хочешь идти индивидуальным путём, чрезвычайно важен принцип учитель–ученик. Поэтому я со своими студентами стараюсь достичь такого вот развёрнутого погружения в каждого, но понимаю, что многие к этому вообще не готовы – они не задумываются, что их могут спросить, каковы те элементы культуры, которые образуют их мир, что ими движет и куда они хотят прийти. И целью здесь не обязательно должно быть визуальное искусство, потому что, в сущности, искусство – это о том, чтобы делать что-то специфическое и своё. Это неизбежно, потому что демократическая культура хочет, чтобы ты реализовался каким-то особым, специфичным образом.
Мне кажется, что созданная мной школа могла бы быть очень, очень небольшой, и её главной основой были бы взаимоотношения. В Германии и в других местах похожие примеры уже стали традиционным подходом, но я хотел бы сделать это ещё радикальнее, например, выращивать весь школьный «капитал» – и библиотеки, и знания, и опыт, и продукт как капитал результата – с помощью опыта и отношений. Моя идея – искать какие-то синергетические стыковые узлы и совместимости и уже с их помощью развиваться дальше.
Но как далеко ты зашёл с этим? Существует ли это всё пока на уровне идеи или что-то уже реально происходит?
Идея и есть то самое реальное, чего необходимо достичь, но она ещё не полностью разработана. Я многим об этом рассказывал, но есть ещё много деталей, которые было бы важно обговорить. Однако я не думаю, что это – проект, с которым следовало бы торопиться. Институционализировать fine arts как цель я в этой школе не хотел бы, ей следовало бы быть чем-то более обширным и продуктивным, чем целенаправленное продвижение к профессиональности в какой-то области. Может быть, это был бы такой образовательный процесс, в котором технически проходит та же работа, которой занимается каждый художник, но есть и элементарные поиски покоя и толерантности. Звучит немного религиозно, но я видел, как это работает на практике и как это может помочь открыть, что каждый человек талантлив.

Янис Авотиньш. Без названия. 2016. Холст, масло. 113,3 x 97,3 см. Коллекция Зузансов
Разве все люди рождены талантливыми?
Я думаю, что все рождаются с каким-то талантом. Было бы величайшим высокомерием считать, что есть те из нас, у кого нет никакого таланта в какой-нибудь области.

Выставка«Damage Control»в галерееIbidв Лос-Анджелесе. 28.01.2017–01.04.2017. Вид экспозиции. Работы слева направо: Кристоф Вебер, Яёи Кусама, Янис Авотиньш, Кристоф Вебер, Ли Уфан. © Фото:Ibid Gallery