
Ханс-Ульрих Обрист. Интервью в быстро едущем такси
21/06/2018
Мы стоим с куратором и искусствоведом Каспарсом Ванагсом в рижском аэропорту у специального стенда, который Рижская биеннале современного искусства выставила в зале для прилетающих, – ведь в последние дни мая сюда прибыли несколько сотен её гостей. Но в этот раз табличка на стенде – всего с одним именем: «Ханс-Ульрих Обрист». Вот он выходит вместе с прилетевшими брюссельским рейсом (на который он попал, как выяснилось, стартовав из Рима). Мы садимся в такси и отправляемся в город, в разные точки проведения RIBOCA1, которые и собирается посетить наш гость. А я параллельно достаю два диктофона (второй всегда пишет запасную версию, на случай, если с первым что-то произойдёт). Дело в том, что с Обристом есть договорённость об интервью, на которое он согласился с одним условием – оно должно произойти в машине по пути из аэропорта в город.
Так что мы с Хансом-Ульрихом сидим сзади, Каспарс с шофёром спереди, и за те примерно 40 минут, которые мы проводим в машине, мы и в самом деле успеваем обсудить какие-то ключевые вещи. Интервью на ходу – это очень по-обристовски. Тем более что он говорит целыми блоками, и вопросы лишь указывают путь, по которому выстраиваются целые кварталы текста, размышлений, рассказов, имён.
Умение контролировать насыщенность мгновения, способность проживать максимальное количество интересующей тебя информации – всё это замечательные, но не такие уж редкие качества среди, скажем, технических гениев. Но перед нами человек совсем другого склада ума и с другой страстью. Наверное, столько современного искусства, сколько видел его Ханс-Ульрих Обрист, не видел никто. И он всё ещё радуется ему, словно ребёнок, выбравший для себя жизнь, в которой питается лишь сладостями и отлично при этом себя чувствует. И это совсем не значит, что его мало интересует окружающий мир – этический и социальный аспекты искусства для него важны и существенны. Но это как будто надстройка над чистым и искренним восхищением…
Обрист – куратор кураторов, человек, который не только придумал и провёл множество самых невообразимых и революционных для своего времени выставок, но и написал несколько книг на эту тему (стоит упомянуть и недавно переведённую на латышский «Kūrēšanas veidi»). Искусство и способы его презентации, выходящие за привычные рамки и форматы, – его фирменный стиль, его личный Museum In Progress. Кажется, в последнее время ему стала тесновата не только сама сфера визуального творчества, но уже и планета Земля. Выставка на Марсе? Почему бы и нет? Конечно, если на следующее утро первым рейсом можно будет стартовать на Венеру…
Давайте начнем наш разговор с чего-то очень простого. Как начался ваш сегодняшний день?
Вчера мы открыли эту выставку в Риме, на вилле Медичи [показывает программу выставки Take Me (I’m yours)]. Для меня это было приятным возвращением – я был там куратором с 1999 по 2001 год, и в качестве куратора я делал выставки о городе, о саде, воспоминаниях… В Риме очень распространена идея, что вы изобретаете будущее с помощью фрагментов из прошлого. Я тоже часто жил на вилле Медичи в течение тех трёх лет, в годы как раз до и после смены миллениума. Затем я работал в Париже, потом переехал в Лондон, и на самом деле я не так уж часто возвращался в Рим. Но теперь меня вернула эта выставка, Take Me (I’m yours), очень давняя моя экспозиция – это вообще первая выставка, которую я делал как куратор для галереи Serpentine в 1996 году. Здесь посетителям разрешено делать то, что им обычно не разрешается делать на выставках, в частности, им разрешается трогать объекты, они могут забирать их с собой, они могут выставлять их у себя дома и т.д. Вдохновителем идеи стал Феликс Гонзалес-Торрес – это всё о взаимодействии и соучастии. Вся выставка – некий take-away. Она была сделана в тесном сотрудничестве с художником Кристианом Болтански, а её дизайнером был Мартино Гампер.
Открытие прошло вчера вечером, а мое личное правило – всегда при первой же возможности уезжать из города на следующий день, поэтому я улетел первым рейсом из Рима, в 6:20 утра, чтобы попасть в Ригу и увидеть здешнюю биеннале.
А как вы обычно начинаете день, когда не путешествуете?
Когда я в Лондоне, я отправляюсь на пробежку. Потом я пью кофе и читаю газеты, и ещё всегда читаю кусочек из Эдуара Глиссана. Это для меня самый актуальный писатель в XXI веке. Он был моим очень близким другом и скончался несколько лет назад. Это поэт и философ с Мартиники, который понимал, что силы глобализации, конечно, оказывают влияние и на искусство. Нынешние времена – не первый раз, когда планета сталкивается с глобализацией, но то, что мы сейчас переживаем, – её крайняя форма. Это приводит к усилению всех видов гомогенизирующих сил, а значит – риск исчезновения угрожает не только феномену культуры, но и языкам. Сьюзан Хиллер сняла прекрасный фильм, где она показывает, как вымирают языки; Умберто Эко и Этель Аднан указали мне, что ручное письмо рискует исчезнуть в цифровую эпоху. Вот почему каждый день я публикую рукописные записочки и наброски в своём аккаунте в Инстаграме. Этот аккаунт посвящен индивидуальному почерку и такого рода пометкам. Биологические виды тоже исчезают – вчера вечером за ужином А.С. Байетт, выдающаяся английская писательница, спросила меня: «Когда вы в последний раз видели сороконожку?» В конце концов, как сказала Элизабет Колберт, даже наш собственный вид находится под угрозой вымирания.
Вчера я был в Италии, и там как раз сейчас происходит большой политический кризис – крайне правые и популистские партии формируют правительство. В этом смысле Глиссан уже давно понял, что есть риск отката назад, обратной реакции на глобализацию, что может резко ухудшить ситуацию. Это может привести к нехватке толерантности, нехватке солидарности, к новым формам национализма, к новым формам расизма… Если сейчас открыть газету, вы увидите это повсюду в мире. Он предсказывал это и говорил, что мы должны сопротивляться гомогенизирующей форме глобализации, но мы должны в то же время выступить против этих новых форм популизма и найти то, что он называл mondialité, – возможность глобального диалога. Как обитатель Мартиники, он считал, что тот факт, что существуют другие острова, с которыми у Мартиники есть диалог, вовсе не угрожает её идентичности. Наоборот – этот диалог между Мартиникой и другими островами делает его собственную идентичность богаче. Нам следует понимать, что наша идентичность может обогатиться с помощью обмена. Но обмен должен быть уважительным и не стирать различия. Для меня mondialité – это своего рода инструментарий; каждый день я читаю стихотворение или несколько строк Глиссана, и все мои выставки – своего рода приложения к его мыслям. Например, выставка Take Me (I’m yours) – это один из таких примеров. Она началась в 1996-м, она путешествует теперь уже в течение 22 лет, но каждый раз, когда она отправляется куда-то, она дополняется серьёзными местными исследованиями, что значит, что она уже привязана к этой местности. Например, на вилле Медичи мы работали с резидентами виллы, мы работали с историей виллы – Болтански составил список всех художников, которые жили здесь с XIX века. Мы также изучили других местных художников, работавших в Риме и в Италии… Мы обнаружили, что Джанфранко Барукелло, которому сейчас за 90, работал над темой щедрости, а это тоже тема нашей выставки.
Когда я просыпаюсь утром, я хочу понять, что могу привнести в этот мир. В XXI веке есть несколько очень больших проблем, и я думаю, что с каждой выставкой, которую мы делаем, мы должны стараться внести вклад в их решение… Я уже упомянул вымирание, мы должны учитывать и изменение климата, но и сами мы живём в обществе, которое страдает от всё возрастающего неравенства. Оно особенно разительно в больших городах. Такая выставка, как Take Me (I’m Yours), – это искусство для всех: она предлагает прекрасные произведения искусства для каждого; каждый может превратить свою квартиру в выставку. Надеюсь, это можно считать вкладом в уменьшение неравенства в мире. Я твердо верю, что встреча с искусством может менять людей. Оно может преобразовывать, поэтому я хочу, чтобы каждый имел эту возможность. Вот что заставляет меня подниматься из постели по утрам.


Ханс-Ульрих Обрист на выставке «Откуда берутся стихи?» (часть параллельной программы RIBOCA1)
Количество информации и скорость, с которой мы её получаем, возрастает почти в геометрической прогрессии с каждым годом. Можете ли вы справляться с этим или вы уже научились реагировать настолько быстро, что это на вас практически не влияет?
Полагаю, этот вопрос во многом – о разного рода темпах в жизни. Венкатеш Рао ведёт замечательный блог, ribbonfarm.com, в котором он пишет, что размышления без действий довольно бессмысленны, в то время как действия без размышлений – это базовое состояние. Но на самом деле мы всегда нуждаемся и в размышлении, и в действии, и я думаю, что это имеет отношение к изменению скорости. С одной стороны, я человек очень быстрый по натуре: я быстро говорю, особенно для швейцарца – когда я рос, мне говорили, что мне надо бы переехать в Германию или Италию, где все говорят быстро; но я так и не научился говорить медленно. И всё же, что касается скорости, я полагаю, что важно вводить в свою жизнь элемент медленного. Мы говорили о моём дне – в нём всегда есть моменты, когда я встречаюсь с художниками, архитекторами, философами, и у меня с ними происходят разговоры. Это важнейшая часть моего дня, в это время все телефоны отключены, и я сосредотачиваюсь на разговоре. В эти моменты я часто забываю о времени, и тогда никто не может связаться со мной часами. Это о том, чтобы находить различные темпы – чтобы в вашем распоряжении был и быстрый, и медленный ряд движения. Это верно не только по отношению к нашей жизни, но и для таких медиа, как выставка, и для музеев. В музеях у нас бывают моменты, когда мы хотим успокоиться и замедлиться, но потом наступают моменты, когда мы хотим ускориться. Мы хотим радикально экспериментальных лабораторий, но в то же время нам необходим, как сказал Седрик Прайс, момент для «сбора урожая тихого глаза»; мы хотим иметь в своём распоряжении и то, и другое. Необходимо включать моменты «отключения связи», а также моменты замедления в наш день.
Конечно, моя собственная жизнь довольно-таки ускоренная. Мне необходимо посещать множество различных городов, это связано с тем, что, как я сам считаю, моя роль – соединять. То есть собирать людей вместе, создавать зоны контакта. Я создаю контакты между произведениями и людьми, и для этого мне приходится путешествовать. В то же время я часто представляю людей друг другу и в виртуальной среде; одно из моих любимых занятий – знакомить людей с помощью e-mail, или WhatsApp, или WeChat. Кураторство – это не только собирание вместе объектов, это и собирание вместе людей. Тем не менее такие вещи всё ещё удаются лучше, если происходят в физическом мире.
Я рос в монастырском городке, в котором была монастырская библиотека. Мне всегда нравилась идея, что монахи переезжали из одного города в другой и привозили все свои знания с собой. Конечно, я работаю с другой скоростью, нежели монахи, но мне нравится идея Криса Маркера о «художественном паломничестве». Мне нравится привозить все мои знания, все мои контакты в город. Мне нравится читать лекции и давать всё, что я могу, и в то же время получать новые знания – а потом переезжать в новый город. Это почти как аналоговый интернет. Когда я начинал, в 1980-е, интернета ещё не было. То есть я был как аналоговый интернет. Подростком я путешествовал ночным поездом и встречал всех художников, которых хотел встретить в каком-то конкретном городе. А потом я отправлялся в следующий город и рассказывал живущим там авторам о художниках, которых я видел в предыдущем месте. Это было время, когда всей этой информации онлайн попросту не существовало.
Возвращаясь к вопросу о физически быстрой речи – во время разговора продумываете ли вы параллельно свои ответы, пока говорите, или, может, вы уже заранее всё продумали?
Это интересный вопрос. Поскольку мой образ действий основан на разговорах, я не произношу «речи» в том смысле, что у меня имеется сформированная идея о том, что я собираюсь сказать; напротив, это во многом ответная реакция. ХХ век был весь про манифесты – как сказала поэтесса Этель Аднан, и зачастую это были очень громкие и мужские манифесты. Но XXI век мог бы быть скорее о женском качестве слушания. Большая часть моего разговорного поведения имеет отношение к слушанию, к петлям откликов. И так, из разговоров, появляются все мои идеи выставок. Как и эта выставка, открывшаяся предыдущим вечером и путешествующая уже 22 года, – она началась с разговора с Кристианом Болтански. Все мои идеи появляются из таких разговоров; я не придумываю идею, когда сижу один в своём кабинете и думаю. Всё мое существование глубоко завязано на разговорах.
Есть определённые вещи, которые я всегда повторяю, не важно, с кем я, – как, например, я сегодня упомянул в нашем разговоре Глиссана. Я считаю, что весь мир должен был бы иметь перевод на свой язык работ Эдуара Глиссана, и тогда у нас не было бы такой политической ситуации, какая сейчас возникла в Италии. Глиссан – как антидот ко всему этому. И моя миссия – добиться перевода этих работ. Мы сделали большую выставку об Эдуаре Глиссане с моим другом Асадом Разой – мы перевели тексты Глиссана и раздавали их, мы сделали выставку, где люди могли получить некий «опыт Глиссана» и которая теперь путешествует по миру… Это не манифест, но это вера, в которой, я думаю, мир нуждается прямо сейчас. Это почти гомеопатия.
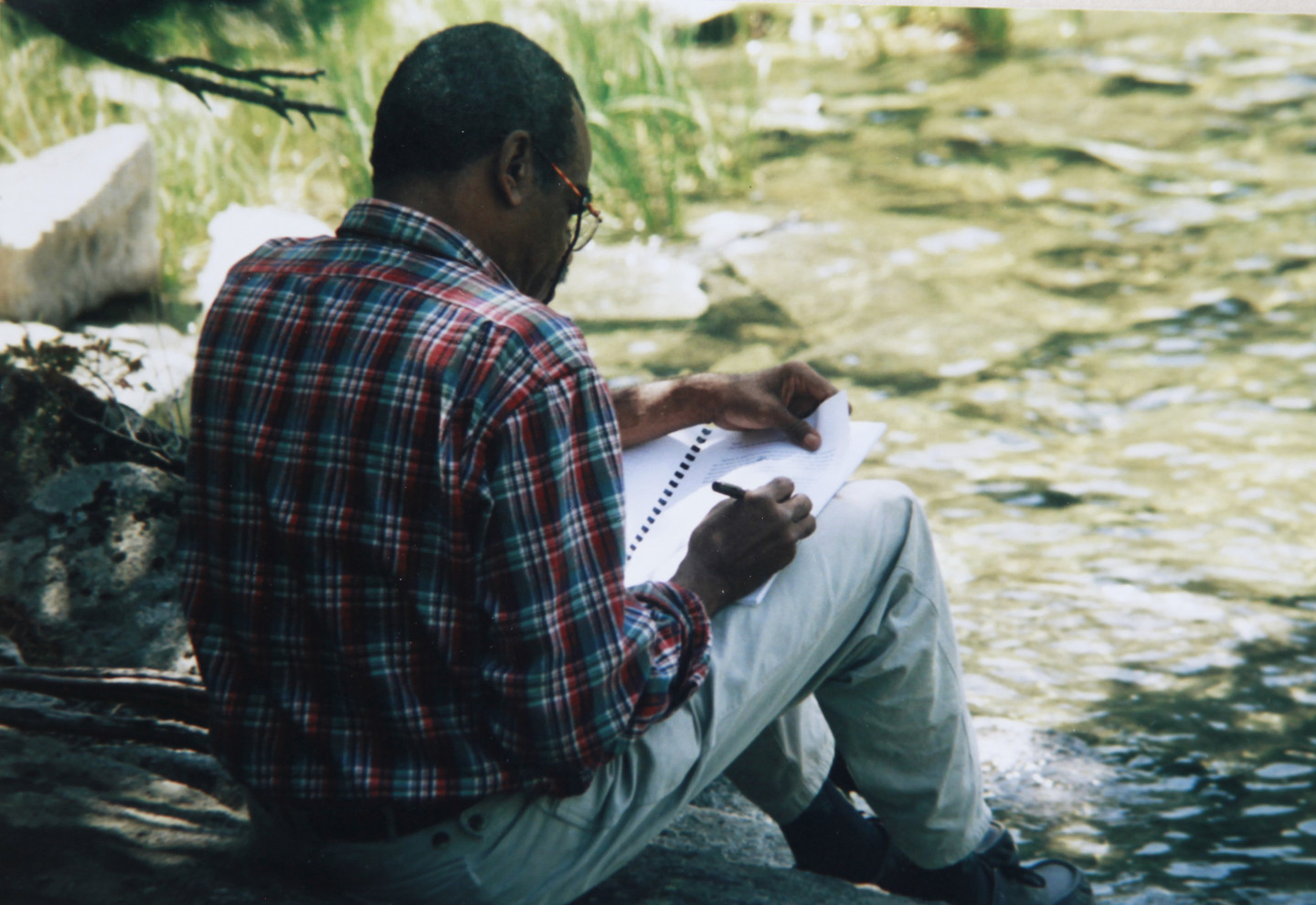
Эдуар Глиссан. Собственность l’Institut du Tout-Monde
Однажды в интервью вы объяснили, как слово «курировать» произошло от латинского cūrāre, означающего «заботиться, уделять внимание». По-эстонски (не по-латышски) похожее по звучанию слово kurat означает «чёрт». По вашему опыту, есть ли у кураторства и своя тёмная сторона?
Подобная профессия налагает большую ответственность, во-первых, не инструментализовать искусство. Тёмная сторона кураторства – это когда кураторы делают искусство инструментом для своих собственных целей. Я бы никогда не втискивал художника в свои рамки. Я начинаю с того, что узнаю желания художников, их мечты, их нереализованные проекты, – что именно в рамках общества, в котором он существует, художник не мог до сих пор сделать. А тёмной стороной кураторства могла бы быть интенция управлять художником, инструментализовать его, считая, что только в таком случае можно добиться путного результата.
Существует иллюзия, что куратор обладает властью, и она тоже опасна. Мы никогда не должны забывать, что единственная власть принадлежит искусству. Причина, по которой я хочу быть около искусства, поддерживать искусство, и почему я стараюсь предоставить возможность искусству состояться, это то, что именно оно переживёт наше время. Если оглянуться назад – на днях я был в Мадриде, в капелле Гойи, и мы можем смотреть сегодня Гойю, но мы ведь даже не помним политиков того времени… Мы даже не помним королей, но мы помним Гойю. И мы можем соединить его картины с тем, что происходит сегодня в Сирии, в Йемене… Это очень перекликается с настоящим. Искусство переживёт нас всех.
Тёмная сторона кураторства – это если куратор вдруг решит для себя, что он обладает большей властью, чем художник. Странная идея. Как часто говорит мой друг и важный художник Петер Фишли, никто ещё не посетил могилу куратора. Быть куратором – не имеет отношения к власти, это имеет отношение к тому, чтобы быть полезным. Власть куратора только в его или её полезности для искусства.
Связь с медициной слова cūrāre в настоящий момент, когда нашу планету разрушают, интересна в плане идеи излечения. Мы будем делать выставку Эммы Кунц в галерее Serpentine. Она была целительницей, которая обнаружила лечебные свойства определённого камня, она организовывала посещения этой пещеры и грота и делала порошок из этого камня. Вы можете найти его сейчас в аптеках; когда я был ребёнком в Швейцарии, моя мать покупала эту мазь и давала мне, когда я плохо чувствовал себя или у меня что-то болело. Это всё придумала художница, которая обнаружила целебные свойства этого камня. Затем она стала делать рисунки с помощью подвешенного маятника, следуя за потоками энергии этого камня. Мы собираемся сделать выставку о связанном с этим целительстве, имея в виду именно этот аспект cūrāre, – и это уже выходит за рамки искусства.
Мы говорили в начале встречи о латвийским после [в Великобритании, Байбе Браже] и что на самом деле я здесь благодаря её энтузиазму. В 1990-е, будучи молодым куратором, я повстречал Уги Сигга, швейцарского посла в Китае. Он проявил огромный энтузиазм по отношению к китайскому искусству и позаботился о том, чтобы оно появилось и в посольстве. Я думаю, что вообще посольства имеют великолепный потенциал и недостаточно используются для пропаганды культуры. Это большая редкость, когда люди, которые являются послами, понимают важность культуры. Очень часто это просто чиновники, которые ничего не делают… Именно Уги Сигг был причиной того, что я так увлёкся Китаем. Замечательно, что у Латвии такой посол в Лондоне. Все наши посольства должны быть такими – это образец для всех.
Я убеждён, что мы должны нести культуру в общество, а искусство в политику. В галерее Serpentine мы увлечены наследием художника Джона Латхама, который вместе с Барбарой Стивени основал Artist Placement Group; он говорил, что каждая организация должна иметь приглашённого художника – каждое министерство, каждая мэрия, каждая большая корпорация. Это была бы интересная мысль и для Риги. Пятнадцать лет назад мэр Манчестера хотел преобразить Манчестер, и он пошёл к крупному художнику из этого города, Питеру Сэвиллу, и попросил его помочь. Сэвилл сказал, что надо организовать фестиваль, который с течением времени стал Манчестерским международным фестивалем. Всё там будет новым, и всё должно переживать там свою мировую премьеру. В конце концов это вернуло Манчестер на карту – только потому, что этот художник был близок к мэру.
Это прекрасна модель для будущего. Мы не должны изолировать культуру; нам нужно принести искусство в гущу общества. Это моя цель. Это ещё одна из причин, почему я встаю каждый день из постели.

Известно, что когда вы впервые встречаете художника, то часто спрашиваете его не о том, что он уже сделали, а о его нереализованных мечтах. Хотелось задать вам тот же вопрос – есть ли у вас нереализованная мечта, о которой вы до сих пор думаете?
Точно так же, как и у архитекторов, множество кураторских проектов остаются нереализованными. Я сделал архив, в котором собрано много нереализованных художниками проектов, и у меня есть идея однажды сделать большую выставку их всех – чтобы люди узнали об этих тысячах проектов. И хотя я всё ещё надеюсь когда-нибудь это сделать, до сих пор такого не произошло, эта идея как будто «зачарована».
Мне также хотелось бы ещё поработать над операми. Я сделал Il Tempo del Postino с Филиппом Паррено; опера – это как групповая выставка. Меня всегда вдохновлял Дягилев, русский импресарио… Он – одна из причин, почему я стал куратором. В «Русском балете», который он основал, дело было так, как будто музыка встречается с литературой, встречающейся с искусством. Мы сделали много подобного в Манчестере, а теперь мы делаем это с Алексом Путсом и его новой организацией, The Shed, в Нью-Йорке, поэтому такого рода проекты будут ещё реализовываться… Мы пригласили Арво Пярта, который сочинил музыку к Герхарду Рихтеру, а Герхард Рихтер написал картины к Арво Пярту… И Стив Райх, который тоже сочинил музыку к Герхарду Рихтеру. Музыка Пярта и Райха будет в двух разных помещениях с работами Рихтера – это проект, который ещё не был реализован, а теперь будет. И таких проектов очень, очень много.
Есть несколько человек, с которыми я всегда хотел поработать, например, Жан-Люк Годар.
Что бы вы хотели сделать вместе с Годаром?
Полагаю, выставку, потому что он и сам сделал выставку в Центре Помпиду, где он действительно экспериментировал с тамошней коллекцией и с фильмами. Моё медиа – это выставка, поэтому у меня множество нереализованных идей в этой области, но при этом возникает вопрос: как выйти за пределы временности выставки – как делать более долгосрочные вещи. Некоторые мои выставки, как, например, Take Me (I’m yours) и do it, похожи на алгоритм, который продолжает развиваться и изменяться. Они всегда живые и изменяющиеся, но они появляются и исчезают; думаю, было бы интересно создать модель выставки, которая могла бы развиваться, но обладала бы постоянным присутствием.
Ханс-Ульрих Обрист (в центре) с руководителем галереи Serpentine Яной Пил, учредителем и комиссаром Рижской биеннале Агнией Миргородской, послом Латвии в Великобритании Байбой Браже и искусствоведом и куратором Каспарсом Ванагсом составили свой «Балтийский путь» на фоне работы голландского художника Эрика Кесселя «Цепь свободы». Фото: Инесе Дабола
И всё же это не был бы музей?
Это всё же была бы выставка, но с другим временным горизонтом. Однако это из области пока нереализованных идей.
Думаю, дворец нереализованных проектов – это было бы здорово: здание, где вы могли бы увидеть мечты художников. Это было бы замечательно.
Я бы хотел сделать выставку на другой планете. Я хотел бы быть куратором выставки на Марсе – что пока не реализовано [смеётся]. Может быть, мне надо было бы сотрудничать с Илоном Маском… Джефферсон Хэк и я разрабатывали проект для NASA, то есть создание межпланетных выставок – это определённо своего рода одержимость для меня.
Думаю, мой самый большой нереализованный проект имеет отношение к урбанизму и архитектуре… В галерее Serpentine мы делаем свой павильон каждое лето, и моей мечтой всегда было представить работу архитектора. Но быть куратором целого города было бы ещё интереснее – как бы выглядел город, сделанный и управляемый художниками? Тут необязателен генеральный план экогорода, как в Абу-Даби или Бразилии, я это скорее вижу как архипелаг инициатив художников, которые могли бы вместе сформировать новый город. Это мог бы быть город, в котором множество художников также и жили бы. Это вроде моей личной утопии – создать город или на Земле, или на другой планете. Что было бы предельной формой кураторства.
Меня также интересует идея, что это не должно быть только идеей, реализуемой сверху вниз; множество планов урбанистов были именно такими – «сверху вниз», генеральными планами, но я думаю, было бы интересно сделать это как план «снизу вверх» – как мы могли бы ввести самоорганизацию? Мои выставки делают это, но как это можно было бы применить к формату целого города? Это мой самый большой нереализованный проект; я пока не нашёл контекста, в котором я мог бы реализовать этот город. Думаю, множество художников заинтересовано в такой идее. Это было бы здорово – город, построенный художниками! Ничего подобного никогда не существовало. Все города всегда строились урбанистами и архитекторами… Да, город искусства!

Ханс-Ульрих Обрист. Фото: Кристине Мадьяре
.JPG)
