
«Современное искусство съедает все жанры»
Разговор о том, как снимают и смотрят экспериментальное кино сегодня
05/10/2018
Среди многочисленных программ прошедшего недавно санкт-петербургского кинофестиваля «Послание к человеку» самой посещаемой уже не первый год оказывается экспериментальная программа In Silico. Ни абстрактность, ни отсутствие традиционного нарратива, ни герметичная форма экспериментальных эссе, кажется, не пугает современного зрителя, буквально штурмующего залы фестивального кинотеатра. О том, почему этот жанр так нравится публике и как сегодня смотрят экспериментальное кино, беседуют участники жюри кинокритик Вика Смирнова и историк искусств, куратор арт-проектов Дмитрий Пиликин.
Вика Смирнова: In Silico – самый популярный конкурс фестиваля. По количеству зрителей его показы соперничают с русскими премьерами каннских картин. Как ты думаешь, в чём причина такой популярности? Она как-то связана с промежуточной природой жанра, существующего на границе кино и современного искусства? Важна ли здесь краткость? Ведь мы имеем дело с короткометражным кино, очень лаконично рассказанной историей. Действительно ли обычного зрителя так привлекают эксперименты с формой, глитч или 3D?
Дмитрий Пиликин: Я думаю, что краткость важна. Например, когда я в Нью-Йорке во время резиденции читал лекцию, меня предупредили о том, что зрители не способны воспринимать информацию дольше 45 минут: им надо посмотреть почту, проверить новости, попить воды, правда, потом, попав на лекцию к Жижеку, я понял, что бывают и исключения. Люди сидели три часа, заворожённо наблюдая за его жестикуляцией, и слушали его ужасный английский, потому что это звезда.
В.С.: При этом краткость цепляет.
Д.П.: Конечно, быстрый скрининг определяет наше сознание, ведь информационно мы уже иначе устроены: мы можем одновременно набирать текст, переписываться в чате и в почте, слушать спиной телевизор и реагировать на громкие звуки за окном.
В.С.: Мы способны быстро сканировать.
Д.П.: И ещё авангард всех заводит. Хотя само понятие до сих пор работает как «красная тряпка». Прошло уже больше ста лет, а «Чёрный квадрат» Малевича или «Фонтан» Дюшана до сих пор чудовищно раздражают некоторых зрителей, хотя это давно уже «классика».
В.С.: Имеет значение и то, как мы смотрим.
Д.П.: Конечно, сегодня произведение начинает работать в тот момент, когда к нему подходит зритель и начинается процесс соучастия.
В.С.: В нашем жюри мне был интересен опыт другого зрения, то, откуда каждый из нас смотрел фильмы.
Д.П.: Я заметил, что Михаил (Михаил Железников – куратор программы In Silico) очень умело выбирает людей, привлекает их в жюри из разных областей: скажем, ты – кинокритик, Дауи Дикстра – режиссёр, я занимаюсь современным искусством.
В.С.: Заметь, что обсуждая фильмы, мы далеко не всегда говорили «это хорошо» или «это никуда не годится». В зависимости от перспективы, от того, принадлежит фильм кино или современному искусству, он мог быть увиден совершенно по-разному. И сам медиум тоже многое определял. Например, на экране компьютера «Лестничный танец пластиковой бутылки» Басова меня совершенно не заинтересовал, а в зале, наоборот, понравился, это было совершенно другое кино.
Трейлер фильма Михаила Басова «Лестничный танец пластиковой бутылки»
Д.П.: Почему?
В.С.: Компьютерный экран превратил всё в историю, в гэг, а в зале я увидела очень интересную попытку создания звука через изображение, попытку поработать с простейшим сюжетом. Что может быть проще пластиковой бутылки? Без всякой поэтизации мусора, без «Красоты по-американски». При этом я совсем не хочу сказать, что я там что-то такое увидела только потому, что компьютерный экран убивает изображение. Я совсем не уверена, что плёнку надо обязательно смотреть в кинотеатре, а не, например, по телевизору. Мне как раз интересно перемещение, когда сам контекст или перевод задаёт иные координаты. Это касается не только медиума. Скажем, большинство иностранцев очень любят Звягинцева, Тарковского за то, что их тексты «приобретают», пересекая границы другой культуры. Они смотрят «Зеркало» или «Елену», которых не существует в реальности российского зрителя, ведь произведение – результат диалога: без зрителя нет никакого фильма, есть только плёнка, собрание пикселей. Ну, и наконец, перемещение из одного медиума в другой разрешает и другие проблемы, например, проблему экрана, который, в отличие от холста художника, для режиссёра один и тот же.
Д.П.: Такие разговоры возникают и относительно звука, скажем, говорят, что аналоговый звук лучше, или, если речь идёт о фотографии, говорят, что серебряная печать лучше цифровой. Поскольку я был причастен к ранней истории медиаарта (делал первый петербургский интернет-проект), я в какой-то момент понял, что их вообще не нужно печатать. Фотография – это моментальный срез бесконечной видеоплёнки, которую мы наблюдаем. Проекция пикселей и есть самая главная аутентичность, а печать – это определённое насилие, желание сложить все образы в коробочку, присвоить их. Я буквально физически чувствовал, что бестелесность кинематографического образа и есть самое главное, то, что составляет феномен фотографического.
В.С.: А если вернуться к кино.
Д.П.: В кино, мне кажется, ещё очень силен момент ритуальности – чтобы посмотреть кино, ты должен буквально сидеть в зале, локоть к локтю, смотреть кино с другими людьми. Как «человек со стороны», я вижу большую консервативность кино, систему ценностей, которая устарела. И потом, мне кажется, что современное искусство съедает любые жанры, как только оно вычленяет в них этическую составляющую, рассуждающую о мире людей. Ведь человек – это то, что человека интересует больше всего на свете.
В.С.: Потому что речь идёт о критике средств?
Д.П.: Потому что оно пытается создать универсалию, не «заниматься» чем-то, а посмотреть на это со стороны и задать иногда неприятные или сатирические вопросы о штампах, которые накопились в жанре. Например, если ты кузнец, профессионал, и не просто выковываешь изощрённую розу, а задумываешься о том, что это ужасный китч, и доводишь этот китч до логического предела, то коллеги начинают тебя просто ненавидеть, потому что думают, что ты «издеваешься над святым», над жанром. Приведу тебе пример. Перед тем как поехать на знаменитую «documenta X», я прочитал, что там не будет ни одного русского художника. Вернее, будет один русский, но не художник, а кинорежиссёр. Это был Сокуров с фильмом «Мать и сын».
В.С.: И почему был отобран фильм Сокурова, по-твоему?
Д.П.: «Мать и сын» имеет характер завершённого рондо: сначала мать носит сына на руках и рассказывает ему о мире, потом жизнь матери подходит к концу, и уже сын носит её на руках и говорит ей последние слова о мире, и вот эти универсальность и завершённость позволили фильму стать объектом современного искусства.
В.С.: Но ведь современное искусство совсем не всегда про искусство.
Д.П.: Да-да, и оно точно не обязательно про изображение, оно про формулирование вопросов, на которые искусство никогда не отвечает, но умеет их формулировать. Скажем, я переживаю Рембрандта как крайне актуального художника, который рассказывает не только о прошлом. Ведь в жизни мы сталкиваемся с примерно одинаковым набором сюжетов, поэтому не так важно, когда жил автор.
Трейлер фильма Дмитрия Венкова «Гимны Московии»
В.С.: В конкурсе всем очень понравился фильм Дмитрия Венкова, который работает со «старым сюжетом», сталинской архитектурой. Что ты думаешь про «Гимны Московии»?
Д.П.: Венков – не режиссёр в классическом понимании, он художник современного искусства, который мыслит видеообразами. Мне радостно наблюдать новое поколение российских художников, которые работают с языком видеоизображения, а не пытаются просто что-то снять. В «Гимнах Московии» с помощью простого поворота камеры рождается очень неожиданная вещь. Что происходит? Удаляются люди, ты не видишь бытовой фактуры, остаётся вневременное. Ведь архитектура – нечто более вневременное и монументальное, то, с чем человек в темпоральности не может соревноваться. Архитектура, таким образом, отвечает за культуру и археологию, потому что сама их воплощает. Советское никуда не делось, оно, как и египетские пирамиды, до сих пор рядом. Поэтому в дипломе для Венкова я и сформулировал: «За эффектный образ Империи, который вся Восточная Европа потеряла, а Россия отреставрировала».
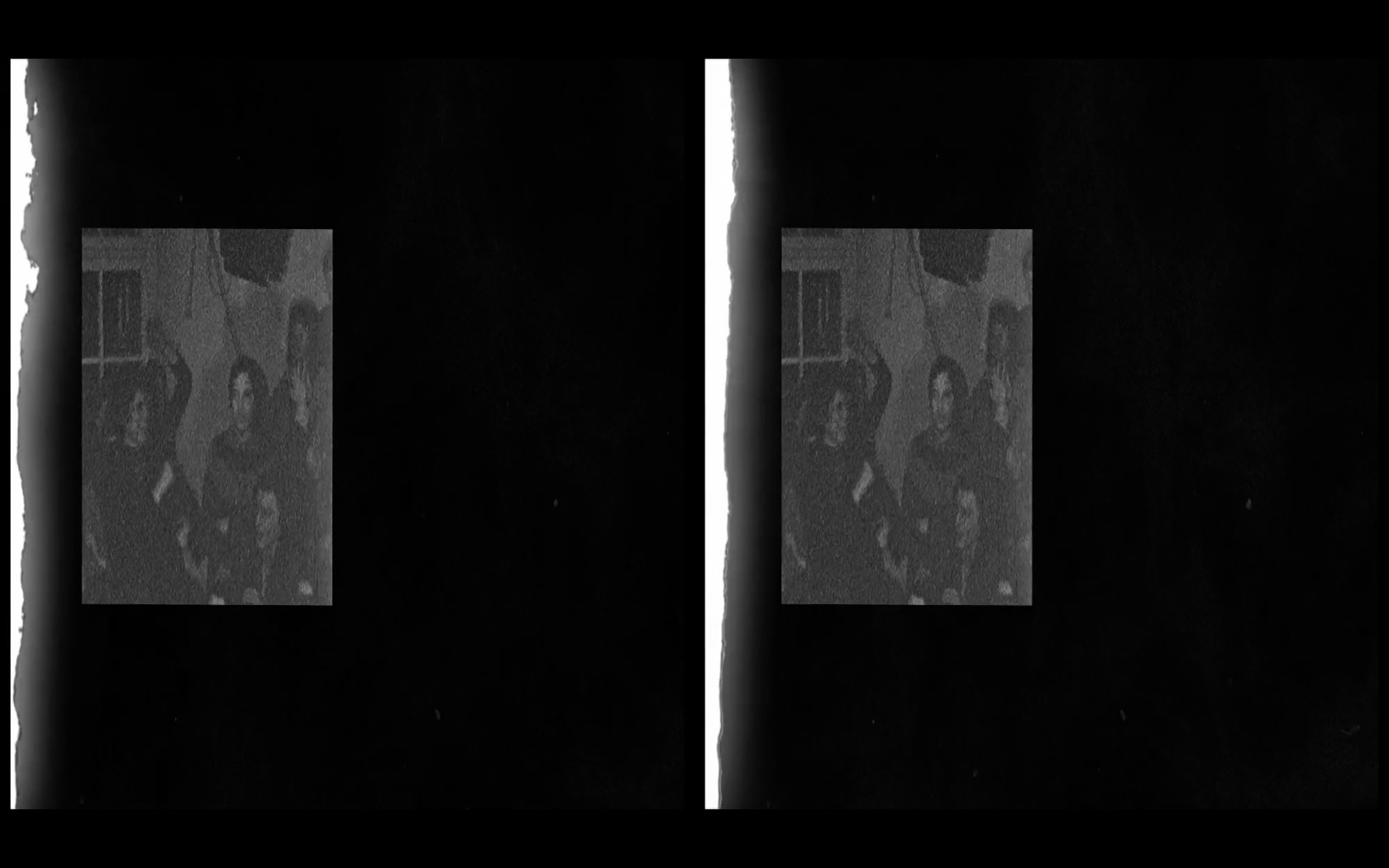
Кадр из фильма «Царапины и пятна» Деймантаса Наркявичюса
В.С.: В фильме «Царапины и пятна» Наркявичюса, который мы наградили главным призом, автор использует совершенно разные форматы: любительскую видеоплёнку с рок-концертом 1970-х, рамку-трафарет, которая очерчивает фигуры, произвольно выхватывая фрагменты из хроники, 3D.
Д.П.: Когда нам раздали очки, меня это немного насторожило. У меня всегда есть претензия к авангардной форме, её надо оправдывать, ведь обращение к 3D может оказаться простым кунштюком. Мало ли что это будет! Мы недоверчивы! Однако когда я смотрел архивное видео, наблюдал за тем, как плавает рамка внутри кадра, я всё время думал об истории искусства. Мы же понимаем, что наше зрение не квадратное, а сферическое, и то, что мы сделали его квадратным, это, как ни смешно, результат городской жизни, которая создаёт планы. В силу культурной привычки мы придерживаем какие-то моменты на заднем плане, но концентрируемся на чём-то одном. Мы научились смотреть на мир, выстраивая прямоугольную рамку, которая для нашей природы не характерна. В отличие от художников и режиссёров мы не мыслим квадратами.
В.С.: Но здесь квадрат ещё и вырез. Или надрез.
Д.П.: Эта рамка в «Царапинах и пятнах» позволяет плавать по памяти, напоминая о том, что наш сегодняшний способ получения информации уже не каталожный или энциклопедический – на это уже просто нет времени, – он портальный. И мы должны найти и применить алгоритм, с помощью которого мы будем способны «прочитать» непреодолимую глыбу информации, постоянно на нас сваливающейся. Экспериментальное кино всегда интересуется тем, что происходит не в кадре, но за рамками кадра или даже в зале.
В.С.: Да, всё уже не в фильме, но между.
Д.П.: И потом, сегодня все используют видеосъёмку, но в «Царапинах и пятнах» нам показывают само наблюдение за рассматриванием, наблюдение за фотографией. Так как работа сделана без всякой литературной конкретности, без истории, зритель её достраивает самостоятельно. Есть фактура, которую ты прочитываешь через собственный опыт. Поскольку на экране кадры с рок-концерта, происходившего где-то в Советской Литве 1970-х, ты вспоминаешь, что такая простая вещь, как рок-н-ролл, оказалась способной разрушить советскую империю просто потому, что продемонстрировала другую манеру быть свободным.
В.С.: Здесь ещё принципиален визуальный момент.
Д.П.: Конечно. То, что это чёрно-белая фотография 1970-х, задаёт известную меру условности. Когда сегодня нужно добиться подобного ощущения, режиссёры зажимают цвета или сводят кино к чёрно-белому изображению. Ведь чёрно-белое отсылает не только к эстетике, но к символизации.
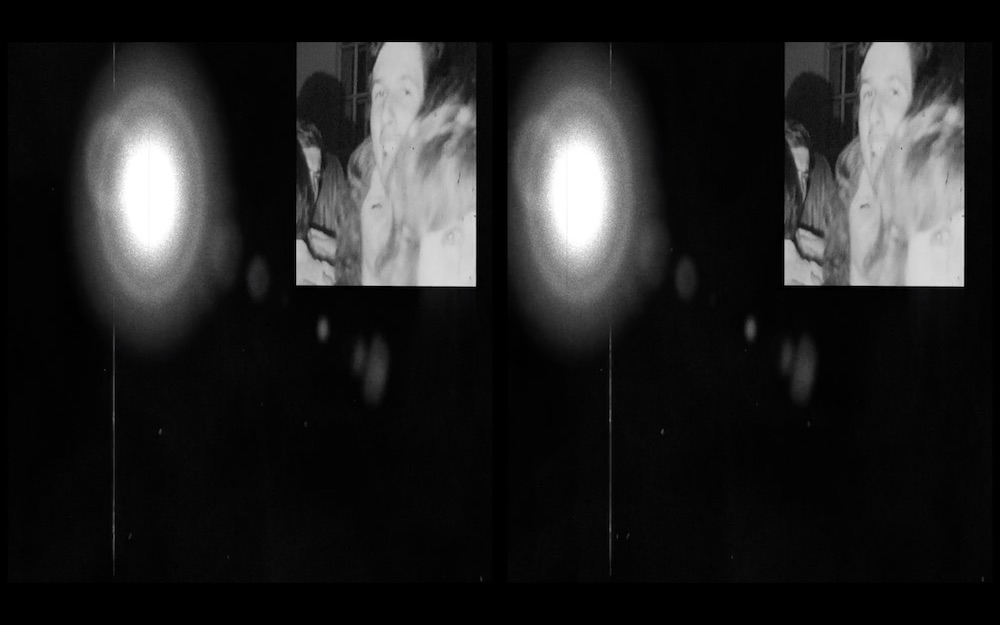
Кадр из фильма «Царапины и пятна» Деймантаса Наркявичюса
В.С.: Плюс саундтрек там замечательно рассинхронизирован, и звуки (аплодисменты, шумы) явно изолированные, записаны в разное время.
Д.П.: Эти обрывки звуков создавали эффект плёнки с утратами. Напоминая нам о том, что сегодня, получая информацию, мы не только не способны её полноценно воспринимать, но что она с самого начала достаётся фрагментами. Вообще, утрата – великая вещь для культуры. Представляешь, что было бы, если бы мы получили всё греко-римское наследие целиком? Мы бы потеряли возможность дискутировать об искусстве, достраивать, воссоздавать. У нас бы просто не было необходимости включать фантазию, чтобы попытаться «войти в то время» и понять его. А без этого мы пользовались бы архивом греко-римской классики исключительно как системой изображений.
В.С.: Не было бы искусства, была бы только культура. Кстати, в «Царапинах и пятнах» очень красиво работает и чёрный экран, который одновременно является условием изображения и тем, что его поглощает. Кажется, что экран «съедает» любительские кадры рок-концерта 1970-х.
Д.П.: Он отсылает именно к кино, а не к видео, ведь мы понимаем, что кино смотрят в тёмном зале, а видео можно смотреть и на свету. Здесь чисто эстетическая специфика.
В.С.: Кстати, говоря о специфике. Интересно, что, в случае Венкова большой экран многое отнимает. Создаёт эффект подчёркнуто компьютерного изображения, которое в галерее уместно, а на киноэкране может раздражать. Заметь, я сейчас просто встраиваю Венкова в кинематографическую традицию, в которой срабатывают другие законы. То есть сорок лет назад мы с тобой спорили бы о вкусах или об объективности, о профессиональных критериях. А теперь, идёт ли речь о музейной инсталляции или о голливудском кино, мы всё равно постоянно указываем на то, откуда мы смотрим. Постоянно возвращаемся к интерактивности, ты, например, сказал, что «Танец пластиковой бутылки» Басова тебе не понравился, потому что много раз видел подобное на Ютьюбе.
Д.П.: Да, для меня это такое видеодиджейство. Когда вырезают кусочек и начинают его повторять. В видеоарте 1990-х это было сильно прокачано.
В.С.: В данном случае не фильм меняет ценность, но ценность производится контекстом.
Д.П.: Ну, мы действительно сегодня подходим к искусству более специализировано. Скажем, нонконформистское пространство культуры 1980-х было единым: все друг к другу ходили, режиссёры к художникам, художники к писателям. А сегодня всё более узкоспециализированно. Как-то в одной московской компании мне посчастливилось кратко побеседовать с философом В.Подорогой. Меня очень удивил его личный художественный вкус, оказавшийся на уровне бидермейера. Что совершенно не мешает ему делать удивительные наблюдения об искусстве.
В.С.: Меня вообще очень интересует момент перевода. То, как нечто возникает в результате перемещения с большого экрана на монитор компьютера, путём прибавления или изъятия. Думаю, что какие-то фильмы, сделанные для кино, куда лучше выглядят на экране компьютера, какие-то ничего не теряют или не приобретают, а какие-то просто исчезают в случае смены медиума. Кстати, любопытно, что Джем Коэн, который в собственном кино только и делает, что «переводит» с одного языка на другой (я имею в виду постоянные перемещения из живописи в кино, из игрового в документальное), у которого навязчиво присутствует момент утраты, как если бы всё, с чем камера имеет дело, нам было дано обрывками или фрагментом, очень в штыки воспринял возможность существования его кино вне кинозала.
Д.П.: Я был на показе его «Инструмента» и впервые увидел «школу восточного побережья», которую показывают на каком-нибудь Санденсе. Меня очень заинтересовал сам способ порождения фильма – когда режиссёр снимает на протяжении восьми лет и не знает, что в результате получится. За это время менялись форматы: он начал с камеры, которая вообще не могла писать звук, потом купил более дорогую камеру и ещё использовал видео, которое снимали сами музыканты во время гастролей. При таком порождении фильма не очень понятно, как человек сохраняет способность ориентироваться в материале? Если у тебя коробка из пятидесяти кассет разных форматов, ты должен покадрово помнить съемки. Это почти невозможно удержать в голове!

Кадр из фильма Виктора Косаковского «Акварель»
В.С.: На закрытии фестиваля мы увидели ещё один эксперимент. Я имею в виду фильм Косаковского «Акварель», рассказывающий своеобразную историю воды, снятую со скоростью 96 кадров в секунду. Пока я смотрела, я думала, что удовольствие от фильма обязано чисто техническому аспекту: мы как будто бы заново возвращаемся к искусству аттракционного зрелища, старинный диорамы или паноптикума. В «Акварели» волнует именно техника. Разнообразные звуки океанской стихии, шумы, то, как по-разному мы можем рассматривать воду.
Д.П.: Да, ты права, эффект построен на очень архаической способности любопытства. До XIX века люди почти никуда не ездили и только по рассказам узнавали о том, что происходит в мире. Меня всегда удивляла история про купцов, помнишь знаменитые путешествия Афанасия Никитина? Он купец, но очевидно, что его желания путешествовать гораздо выше, чем его купеческие способности. Поэтому он поставил себе неординарную задачу – дойти до края света. Меня в свое время удивила история о том, что Петрарка забрался на гору только для того, чтобы посмотреть на мир сверху. До этого подобное никому не приходило в голову, все занимались выживанием: либо жили в горах, либо просто не ходили в горы. У Петрарки же был чисто философский интерес. Сегодня, когда мы смотрим новости, кажется, что всё происходит в соседней квартире. Америка, кажется, совсем за стеной.
В.С.: А некоторые страны, которые ближе, напротив, кажутся далёкими. Ты, например, знаешь, что происходит в Бельгии, конкретно в Брюсселе, кроме дел Евросоюза? Там вообще есть какая-то жизнь?
Д.П.: Многие люди вообще никогда не выезжают за пределы родного города, но чужими глазами умудрились увидеть очень многое. Я, кстати, очень удивился, когда смотрел «Магазинных воришек» Корээды, узнав, что в Японии есть бездомные. Мне казалось, что современная Япония представляет собой высокоорганизованное общество, что такого маргинализма там быть не должно. Для меня это было довольно смешным открытием, связанным с банальным отсутствием информации. Кстати, картина Рорвахер «Воскресение Лазаря» про это же – люди жили в рабстве, потому что не знали, что время изменилось. Я смотрел «Акварель» и думал, что человек пытается делать кино, отталкиваясь от своего впечатления от природы. Он оглушен ею, он полон восторга, но не знает, как этот восторг выразить.
В.С.: И растворён.
Д.П.: Да. Он не может своё впечатление сублимировать. Когда он говорит, что в фильме ему была важна вода как таковая или что он хотел показать только воду, это понятно, но, к сожалению, недостаточно. Наблюдая за тем, как он снимает, как камера следит за падением ворочающейся массы льда, я понимал, что технически перед ним была очень сложная задача, но дальше неё фильм не двинулся. В «Акварели» три самостоятельные части, и самая сильная – первая, снятая на Байкале, – меня захватила. Я видел подобные истории на русском Ютьюбе, когда рыбаки на машинах гоняют по льду, проваливаются, а потом достают машины с помощью петли и палки. В самом начале там присутствует невероятно мощная экзистенция российской жизни: брать машину и куда-то мчаться вдаль, потеряв чувство опасности и ценности жизни. Кажется, что режиссёра это испугало. Я же тогда, после просмотра, выкрикнул ему вопрос о том, как же он бросил такую мощную историю, найденную на Байкале. Помнишь его ответ? Он ответил: «Я боюсь, что если бы я продолжил, то меня бы сочли русофобом».
В.С.: Мне кажется, что он не испугался, ему просто показалось, что он нашёл рифму этому безумию в самой природе, которая так нечеловечески равнодушна.
Д.П.: Да, опять тютчевская «природа-сфинкс».
В.С.: Ты после фильма вспоминал Гурски в связи с Косаковским.
Д.П.: Да, если ты помнишь, у Гурски есть такая работа «May Day». Это стена современного дома со сплошным застеклением. Фотография большого формата, и когда мы смотрим на неё издалека, то в ней нет ничего необычного, она равна нашему зрению. Но когда мы подходим ближе, вдруг выясняется, что в каждом «окне» ты можешь разглядеть каждого человека в мельчайших подробностях. Это выше способности человеческого зрения! Да, это сознательная манипуляция. Фото собрано из тысячи отдельных фото высокого разрешения. А сам факт говорит нам о том, что современная техника уже способна создавать образы мира, которые превышают биологические способности восприятия человека. Но кто знает, что скрывается за биологической способностью восприятия?
В.С.: У Гурски ты не можешь понять, откуда ты смотришь. У тебя просто нет возможности занять точку зрения наблюдателя.
Трейлер фильма Виктора Косаковского «Акварель»
Д.П.: Задача Косаковского совсем другая – разглядеть оглушительный мир в его мощи. Возможно, через энное количество лет эта картина Косаковского будет смотреться совершенно иначе. Как такая наивная, но честная попытка познать непознаваемое. Мне казалось, что ничуть не менее интересно было бы снять сюжет про то, как Косаковский семь лет искал деньги на этот фильм, объясняя продюсерам и финансистам, почему у него нет сценария, и про то, что они тем не менее дали ему эти деньги, потому что художник их очаровывает самим фактом нелинейности и непрагматичности величественного замысла. В самой его деятельности есть человеческий подвиг, есть победа и преодоление. Художник – это ведь часть этого великолепного и зачаровывающего безумия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Интервью с режиссёром Джемом Коэном на фестивале «Послание к человеку»
Cлоёное время Деймантаса Наркявичюса