
Изменение отношения к советской материальной культуре
Кею Крикман
04/11/2013
В этом эссе главным образом собраны мысли по поводу отношения к советской материальной культуре, которые оформились у меня за последнее время.
Просто для ясности – я буду использовать термин «материальная культура», а не «дизайн», потому что хочу включить в рассмотрение и бытовые предметы (как фабричные, так и самодельные), которые не всегда воспринимаются как продукт (профессионального) дизайна; и я буду использовать этот термин достаточно вольно. И гораздо больше внимания я буду уделять не собственно объектам, а тому, как изменилось отношение к ним. Источниками вдохновения для написания этой статьи стали презентации на симпозиуме Таллинской биеннале архитектуры (ТАВ) этого года, выставки, например, Fashion and Cold War («Мода и холодная война») в таллинском художественном музее Kumu, мои собственные исследования, различные книги и статьи, а также информация в сети. Во многом это эссе соотносится со статьёй Анны Илтнере «Постсоветский анамнез», опубликованной Arterritory.com в феврале 2013 года.
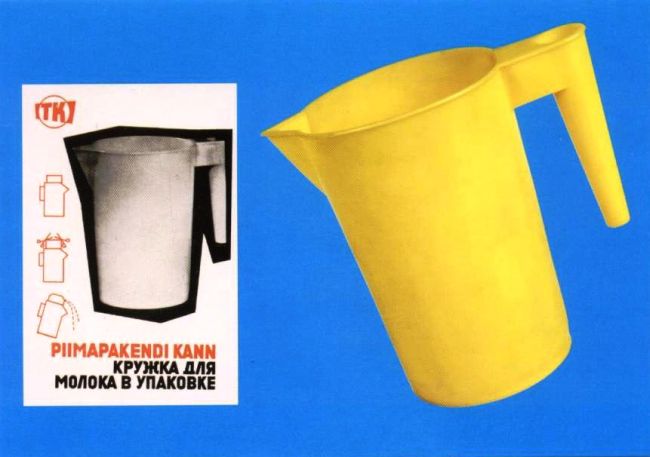
На Таллинской биеннале архитектуры этого года исследовалась идея «вторичной переработки социализма» (Recycling Socialism), которая стала также темой двухдневного симпозиума в рамках биеннале. Самую первую лекцию на симпозиуме прочитал историк архитектуры Андрес Кург, который начал свою презентацию с концептуализации исследований советской культуры в целом. Ссылаясь на Алексея Юрчака, он выдвинул концепцию «серьёзного восприятия советской эры», которая предполагает отказ от упрощённой идеи о якобы доминировавшей дихотомии официальной и неофициальной культуры и рассмотрение взамен этого комплексной и гибридной природы культуры советского периода. В своей книге «Всё было навечно, пока не кончилось» Юрчак оспаривает понятие «бинарного социализма», сформированного на основании суждений о том, что советский социализм не только был «плохим» и «безнравственным», но таковым и ощущался теми, кто жил в СССР. Такой подход, как считает Юрчак, привёл к использованию терминологии, в которой для описания советской реальности широко применяются бинарные категории, такие, как угнетение/сопротивление, государство/народ и официальная культура/контркультура. Примечательно то, что такая терминология занимала доминирующее положение в оценках советского социализма на бывшем Западе, а после распада Советского Союза – и на бывшем Востоке.

Кург рассматривал эти концепции в предисловии к своей презентации об архитектуре, однако они безусловно уместны и в сфере «малых объектов» материальной культуры. Тем не менее, когда дело доходит до личного отношения к советскому периоду, я думаю, что эта разница в масштабе играет достаточно серьёзную роль. Ещё один лектор, выступавший на симпозиуме ТАВ, Петра Чеферин, отметила, что иногда для того, чтобы двигаться дальше, снос строений (зданий, памятников), представляющих идеологию, может быть необходим; в какой-то степени эти строения становятся объектами мести. Это убедительно соотносится с представлением об архитектуре как об орудии в руках власти. Меньшие объекты материальной культуры, даже если они производились в тех же условиях, с гораздо меньшей вероятностью рассматриваются как отображение политической власти.
И тем не менее создаётся впечатление, что в течение долгого времени объекты, сделанные в советский период, не особо ценились и считались как-то «мельче» тех, которые принесла в бывший советский блок новая эра капитализма. Благодаря широко распространённому мнению о том, что товары, произведённые в Советском Союзе, были крайне низкого качества (и зачастую так оно и было), люди с лёгкостью их выбрасывали, когда появлялась возможность приобрести товары лучшего качества или более «модерновые» их версии. И хотя эти предметы необязательно представляли советское государство, они олицетворяли собой советский образ жизни, который многие хотели поменять на новый, ориентированный «на Запад», стиль жизни. Очевидно, что отношение к объектам советской эры не является тотально пренебрежительным – у людей образуется эмоциональная связь с вещами, которыми пользовались они или их близкие или которые были сделаны их близкими. Например, я думаю о самодельной одежде, сшитой по бумажным выкройкам. Эти наряды могут цениться по личным причинам, но в то же время они были частью советской системы моды. Такое же отношение применимо к предметам, которые были частью повседневной жизни людей (например, реклама или разного рода знаки и указатели), но не являлись частью их частной сферы. Неудивительно, что сейчас, через 20 с лишним лет после того, как Советский Союз прекратил существование, ностальгия стала важным компонентом того, каким видится советский период как с личной, так и с академической точки зрения.

Советское ретро: обложка DVD The Only Anthology of Retro Soviet TV Commercials («Единственная антология советской телерекламы») 1979–1989, в котором собраны рекламные ролики из частной коллекции бывшего режиссёра и сценариста «Эстонского Рекламфильма» Харри Эгипта
Светлана Бойм определяет два главных типа ностальгии, и я считаю это разграничение уместным в данном контексте. В своём эссе Nostalgia and Its Discontents («Ностальгия и её тревоги») Бойм пишет: «Реставрирующая ностальгия ставит акцент на nostos (дом) и пытается восстановить трансисторический утерянный дом. Рефлексирующая ностальгия процветает на почве algia (тоски как таковой) и откладывает возвращение домой – с сожалением, иронией, отчаянием. (…) Реставрирующая ностальгия считает себя не ностальгией, а скорее истиной и традицией. Рефлексирующая ностальгия живёт в человеческих желаниях и чувстве причастности, и она не чурается противоречий современности. Реставрирующая ностальгия защищает абсолютную истину, в то время как рефлексирующая ностальгия ставит её под сомнение».

Проект «Моё самое любимое платье»: платье, которое носили два поколения
Хотя Бойм поясняет, что ностальгия в России попадает в категорию «реставрирующей» и «спонсируется свыше», в Эстонии ностальгия по этому периоду более похожа на рефлексирующую. Конечно, мы не говорим о том, что реставрирующая ностальгия не нашла своего места в механизме создания эстонской истории; тем не менее, её объект находится в другом месте – она зарезервирована для времён республики до советского периода. Тем не менее создаётся впечатление, что по прошествии достаточно долгого времени людям сегодня нравятся воспоминания о советской эре. Это становится очевидным, судя по наплыву «советского ретро» в коммерческой рекламе и поп-культуре – от комедийных сериалов о жизни в советский период до напитков с «тем самым» вкусом и музыкальных групп, играющих в ретростиле. Советская материальная культура и советский дизайн находятся в процессе реабилитации и на уровне организаций. Два самых свежих примера этой тенденции – выставка «Советский дизайн 1950–80-х» в Московском музее дизайна, которую даже освещала международная пресса, и последовавшая за ней выставка «Дизайн упаковки. Сделано в России». Я не была на этих выставках, поэтому воздержусь от умозаключений. Вместо этого я приведу пример другой недавней выставки – Fashion and Cold War («Мода и холодная война») в таллинском художественном музее Kumu.

Проект «Моё самое любимое платье»: нейлоновые куртки, которые носили два поколения
Кураторы Fashion and Cold War (Эха Комиссаров и Берит Теэяр) задействовали ностальгию по советской эре – а точнее, по одежде того периода, – в маркетинговой стратегии, но они также внедрили в экспозицию (ностальгические) переживания «обычных» людей. Я говорю об этом без тени пренебрежения, напротив, я считаю, что проект «Моё самое любимое платье» (My Most Beloved Dress) стал прекрасным дополнением к выставке. Проект начался за шесть месяцев до открытия выставки. Была поставлена цель – собрать визуальный материал и воспоминания о платьях (или других предметах одежды), которые были важны для «обычных женщин» в какие-то моменты их жизни. Впоследствии визуальные материалы и сопроводительные истории были представлены на выставке. Стоит отметить то, что кураторы выставки энергично возражали против упрощённого подхода к советской моде, для которого характерно пренебрежительное отношение к людям, профессионально или непрофессионально работавшим в этой сфере, а советская мода при этом рассматривается как диковинка и не принимается всерьёз. И вместо погружения в советскую ностальгию для забавы и развлечения она была задействована как стратегия для нормализации представления об этом периоде.

Бочка с квасом, выставленная на таллинской улице в 2011 году
Таким образом, вопрос ставится шире – как представлять и обсуждать советскую материальную культуру без обязательного выставления её дикой, мрачной, бесполезной или имеющей только лишь ностальгический смысл. Тут надо много над чем поразмыслить, как отмечает Светлана Бойм: «Всегда важно задать вопрос: Кто говорит во имя ностальгии? Кто этот чревовещатель? Ностальгия XXI века, как и её эквивалент XVII века, провоцирует эпидемию поддельной ностальгии. Например, проблема с ностальгией в Восточной Европе в том, что она кажется более широко распространённой, чем это есть на самом деле. Может показаться, что это противоречит интуиции. Западные европейцы часто проецируют ностальгию на Восточную Европу – как способ легитимизировать „отсталость” и избежать конфронтации различных точек зрения на культурную историю». Хотя культуролог говорит сугубо о ностальгии, вопрос идеологии в представлении материальной культуры важен в гораздо более широком смысле. Но я думаю, что дело тут уже не в том, что «Запад» навязывает свою точку зрения – за противостояние Запад–Восток времён холодной войны больше не стоит цепляться – здесь речь идёт о том, как эти презентации послужат созданию истории в местном и глобальном контекстах.
Трейлер фильма Goldspinners, посвящённого студии рекламных фильмов Eesti Reklaamfilm
Статья по теме – интервью с кураторами Таллинской биеннале архитектуры 2013.