
Уроки социалистического антропоцена
Санта Ремере
Интервью с искусствоведами Майей и Рубеном Фоукс о деколониальной экологической перспективе со стороны Глобального Востока
Майя и Рубен Фоукс – лондонские кураторы, критики и искусствоведы, специализирующиеся на истории восточноевропейского искусства, современном искусстве и экологии, содиректоры Центра постсоциалистического искусства в University College London и основатели Translocal Institute for Contemporary Art, платформы для транснациональных исследований восточноевропейского искусства и экологии, которая выходит за рамки дисциплинарных границ истории искусства и экологической мысли. Недавно они опубликовали книгу Art and Climate Change («Искусство и изменение климата»), в которой собран широкий спектр художественных откликов на нынешнюю экологическую катастрофу. 10 января в Рижском художественном пространстве Майя и Рубен представили доклад «System Change not Climate Change» («Изменение системы, а не изменение климата»), в котором они проанализировали социалистический антропоцен и его отношение к миру природы, экологии и изменению климата, а также то, как деколониальная экологическая перспектива, особенно уходящая корнями в некапиталистические истории существовавшего социализма, может придать остроты критике «зелёных» предложений капитализма по постепенной адаптации к изменению климата.
Как свидетельствует выставка «Деколониальные экологии» в Рижском художественном пространстве, размышления о деколониальных подходах в Восточной Европе и постсоветском регионе приобрели новую актуальность после вторжения России в Украину. Эта тема уже какое-то время находится в центре ваших исследований. Когда вы впервые заинтересовались этим?
Майя: Поскольку я сама из Хорватии, этот регион всегда был частью моей идентичности и сферы интересов. И когда я начала профессионально заниматься искусствоведением, в центре моего внимания находились вопросы региональной истории искусства, в частности, исследования сравнительной истории искусства постсоциалистической Восточной Европы.
Рубен: Я родился в 1971 году, поэтому в 1989 году мне было 18 лет, а это значит, что падение Берлинской стены и смена системы в том же году действительно переживались как важный момент в моей жизни. Я много путешествовал по Восточной Европе, и мой интерес возник из-за личного участия в происходящих тогда переменах. Меня заинтересовал, в частности, вопрос памятников – публичных монументов и статуй советских освободителей и Сталина, а также концепции новых мужчины и женщины советской утопии и т.д. – темы, над которыми я в конце концов начал работать и которые в конечном итоге стали предметом моей докторской диссертации.
Майя: Да, но дело не только в наших биографиях. Мы жили в Будапеште в течение долгого времени, и как некоренным венграм, нам самим пришлось увидеть там некоторые из этих проблем постколониальности и деколониальности в ином свете. И когда мы начали думать о том, что на самом деле означает деколонизация художественных сцен, существовавших в постсоциалистических странах, нам довольно быстро стало ясно, что это связано с вопросом меньшинств. Это вопрос отношения к искусству рома, вопрос о том, кто имеет право представлять национальное государство, и о том, как вы относитесь к художникам, не являющимся коренными жителями, в рамках конкретных арт-сцен – как они включаются или исключаются из этих нарративов, которые зачастую очень ориентированы на нацию и национальное. Таким образом, мы начали заниматься аспектами колониализма задолго до того, как это стало насущной проблемой. В то же время постколониальность, как она определяется в рамках западных и постколониальных теорий Глобального Юга, может быть проблематичной по отношению к Восточной Европе, поскольку исторический опыт здесь отличается от колониальных отношений, существовавших между колониальными державами Запада и колоний и постколоний в остальном мире. Восточная Европа не так легко вписывается в постколониальные категории, но деколониальность, означающая распутывание множества эксплуататорских отношений, здесь гораздо более актуальная.
Война в Украине (и именно с такой темы начинается выставка в Риге) выдвинула на первый план эти вопросы – что происходит на этой территории прямо сейчас и какие это имеет огромные последствия для людей, окружающей среды, животных, но также более широкие культурные и эпистемологические последствия. И такого рода деколониальные вопросы, которые сейчас задают украинские учёные и художники, очень и очень важны. Думаю, эти дискуссии будут иметь более широкий резонанс и на других территориях региона. Вопросы о постколониальности и деколониальности в Советском Союзе также возникают в контексте Средней Азии, Казахстана, Узбекистана и т.д. – у всех были очень проблематичные отношения с Москвой. Но украинский вопрос выдвинул это на первый план.
Рубен: Что становится более чётким и ясным, так это то, в какой степени история Советского Союза несла в себе и колониальное измерение с преемственностью царского колониализма в советских структурах, менталитете и отношениях – это то, что усложняет попытки переосмысления этих историй…
Может быть, это уже другой вопрос… но есть два аспекта: один – это вопрос деколониальности, который заставляет нас задуматься о колониальных элементах советского проекта, поскольку он расширялся географически на разные страны – включая Латвию, Балтию и остальную часть Восточной Европы после 1945 года. И другой вопрос, над которым стоит подумать: каким образом – хотя восточноевропейские страны не были ни колониями Запада, ни активными участниками западного колониализма, который затронул Карибы, работорговлю, Африку и так далее, – здесь проявился тот самый менталитет, тот колониальный мыслительный процесс, или отношение к другим культурам и народам, которое до сих пор достаточно распространено в Восточной Европе. И именно здесь также важна деколониальность и попытка обратиться к некоторым из этих стереотипов и взглядов и бросить им вызов.
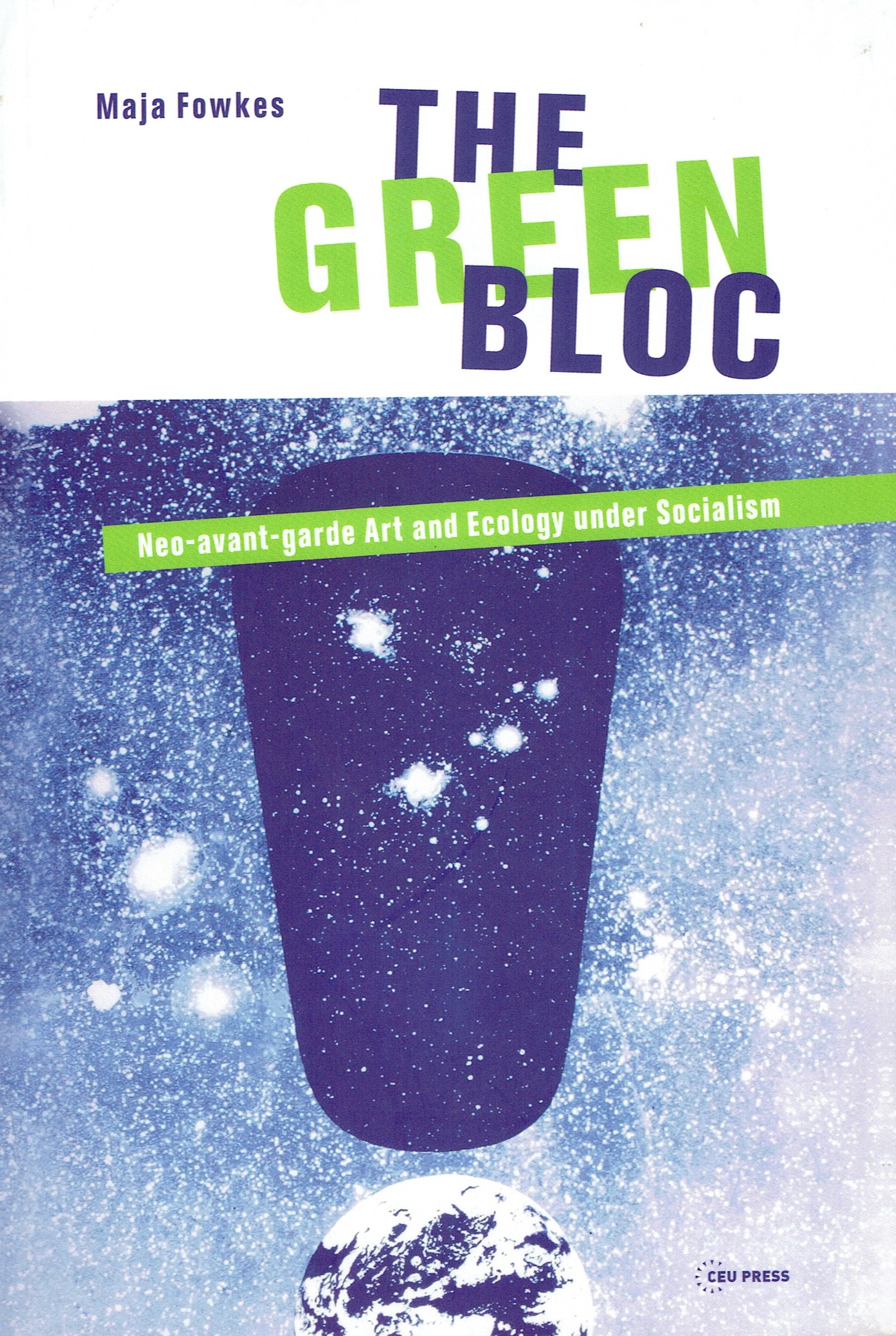
Польско-американский исследователь Джейкоб Микановски несколько лет назад опубликовал статью, в которой утверждал, что Восточная Европа обязана своим существованием смешению языков, культур и религий. В XV веке Вильнюс был мультикультурным городом, на его улицах говорили на шести языках, и Микановский говорит, что этот регион, похоже, функционировал как ворота между различными культурными и религиозными традициями. [Он также обратил внимание на то, что некоторые восточноевропейские эпические поэмы, например хорватско-венгерская о Николае Зринском, существовали до поэм Мильтона. При этом он также ссылается на Ларри Вольфа, который говорит, что Восточная Европа была придумана (французскими интеллектуалами) как «льстивая фольга» для западного Просвещения.]
Майя: Да, очень интересно поразмышлять о более протяжённой истории региона и мультикультурализме Восточной Европы в том виде, в каком он существовал в период до ХХ века. Конечно, можно найти очень яркие примеры мультикультурализма; например, Трансильвания в Румынии была одной из таких исторических горячих точек, и даже сегодня вы можете найти следы мультикультурной модели, сохранившиеся и процветающие там. Тут снова приходят на ум наши личные истории: когда прабабушка Рубена приехала из Литвы в Великобританию в начале ХХ века, она говорила на семи языках и переводила для своих знакомых, чтобы помочь им в коммуникации.
Что появилось раньше, кто был первым, кто что изобрел – это интересный вопрос, потому что мы привыкли к предположению о доминировании Запада, которое также вытекает из предполагаемой победы Запада в холодной войне. В последнее время мы часто слышим «Америка прежде всего» в политике, и в истории искусства также существует идея, что Америка была первой, Запад был первым, а все остальные запоздали. На самом деле, даже если бы не было архивов (а архивы есть, и в них есть доказательства), такого рода господствующие нарративы уже не выдерживают критики, потому что не может быть такой вещи, как запоздание в других частях мира. Просто господствующее мировоззрение затмевает собой все остальные территории. И это имеет место также в Восточной Европе.
Мы не вели подробных исследований по более протяжённой истории Восточной Европы. Мы всё же обратились к истории искусства с 1945 года по настоящее время, рассматривая то, что произошло с этой частью мира во время социалистических преобразований и после них. Но есть и другого плана историки искусства, такие как Катажина Муравска-Муфезиус, которая опубликовала книгу Imaging and Mapping Eastern Europe о визуальных аспектах Восточной Европы – там обсуждаются стереотипы региона и вопросы, которые вы только что задали. В ней она раскрывает сложные вопросы, связанные со стереотипным представлением Восточной Европы с точки зрения Запада, и тем, насколько долговечны эти предрассудки на Западе.
Рубен: Я думаю, что это видение мультикультурной Восточной Европы также может быть положительным ресурсом для поиска, и, возможно, когда вы думаете о некоторых негативных стереотипах и образах, а также о монокультурализме и популистском национализме настоящего времени, это то, к чему исторически можно обратиться как к источнику других моделей – очень плодотворных и важных примеров сотрудничества между сообществами.
Не могли бы вы рассказать о фокусе и целях созданного вами Translocal Institute?
Майя: Translocal стартовала как платформа, в рамках которой мы начали сотрудничать, работая в контексте Венгрии как хорватка и британец, т.е. в неродной среде Восточной Европы. От предыдущего опыта людей с похожей биографией это отличалось тем, что обычно, особенно в Венгрии после 1956 года, уехав, ты уже не мог вернуться – ты становился изгнанником. После 1989 года вам не нужно было делать такой «выбор раз и навсегда» в отношении того места, где вы находитесь. Нам казалось, что эта возможность принадлежать более чем к одной местности – это что-то актуальное, и что существует реальная возможность жить и работать таким образом – поддерживать связи, профессионально реализовываться более чем в одном месте. Многие художники сделали то же самое – например, базируясь в Берлине и сохраняя связь со своими родными странами. И вот с чего мы начали – с документирования нашей деятельности с помощью этой платформы: через публичные мероприятия, курирование выставок и другие вещи, которыми мы занимались. И в какой-то момент Translocal Institute стал реальным пространством.
Мы специализируемся на искусстве, экологии и истории искусств Восточной Европы, имеем собственную библиотеку и программу общественных мероприятий, а также сотрудничаем с университетами в Будапеште (особенно со студентами, изучающими изобразительное искусство и профессию куратора) и с Центрально-Европейским университетом. В течение пяти лет продолжался очень захватывающий период для Translocal Institute, но политическая ситуация в Венгрии и Великобритании перекрыла подобные транслокальные реалии. Потому что, с одной стороны, Brexit заставил британских граждан задуматься и решать, где они будут базироваться. А с другой стороны, венгерская политика тоже сильно изменилась. Центрально-Европейский университет выгнали из Венгрии, и он переехал в Вену, всё начало меняться, и нам пришлось принимать какие-то решения.
Если вернуться к теме выставки, к экологической и социально-политической ситуации в нашем регионе в связи с глобальными и локальными процессами деколонизации, что бы вы назвали в качестве примеров таких процессов деколонизации?
Майя: Я бы определила разоблачение эксплуататорских отношений. Такого рода неравные отношения можно найти на очень многих уровнях внутри одного общества или по отношению к другим культурам и обществам.
Рубен: Кроме того, деколонизация – это своего рода сдвиг в мышлении, который отходит от принятия вертикальных централизованных подходов к более горизонтальному мышлению изнутри наружу и более демократическому или равноправному взаимодействию.
Майя: Название выставки – «Деколониальные экологии» – предлагает задуматься и об экологии, и о деколониальности на одном дыхании. Долгое время экология считалась аполитичной. Долгое время никто не считал экологию чем-то политическим – всегда было что-то вроде: «О, но настоящая политика – это национализм, или настоящая политика – это социальная несправедливость», а экология – это как бы не совсем политический вопрос. Но с изменением климата, когда люди чувствуют это на собственной шкуре, с экстремальными погодными условиями, со всё множащимися свидетельствами климатических перемен это понимание изменилось, и экология снова стала вопросом политической повестки. И это, вероятно, самый политический из всех вопросов, он предельно важен для выживания человечества, однако люди не очень любят думать об этом в таком ключе.
Вот почему экология является серьезной проблемой и в отношении деколонизации. Интересно подумать об этих несколько более «долгих» взаимоотношениях экологии и Восточной Европы примерно с 1980-х годов, когда загрязнение окружающей среды в Советском Союзе и Восточном блоке было очень сильным – в Болгарии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Восточной Германии, Польше. То есть загрязнение воздуха, загрязнение рек, все эти вещи. Я знаю, что то же самое происходило и в странах Балтии. 1980-е были таким моментом, когда люди начали протестовать и мобилизоваться из-за загрязнения окружающей среды. Но в то же время эти вопросы стали политическими и шли в связке с вопросами национальной идентичности, свободы и так далее, и эти процессы теперь можно было рассматривать как деколониальные по отношению к гнетущей системе.
Рубен: Мне кажется, выставка «Деколониальные экологии» интересна тем, что на ней подчёркивается – вещи нельзя отделять друг от друга. Если вы думаете об экологии и хотите противостоять экологическому кризису и климатическому кризису, это также вопрос деколонизации, потому что его корни можно проследить до колониального экстрактивизма. Таким образом, подход в духе «изменения системы» к климатическому кризису означает, что вы также должны начать осмысливать и распутывать это наследие колониализма.
Майя: В нашей книге «Искусство и изменение климата» мы действительно раскрываем взаимосвязь между колониальной эксплуатацией и климатическим кризисом. Очевидно, что это очень связано с глобальными капиталистическими действиями, и именно здесь нам нужно подумать о том, насколько неустойчивым является капитализм, ориентированный на погоню за прибылью и рост.
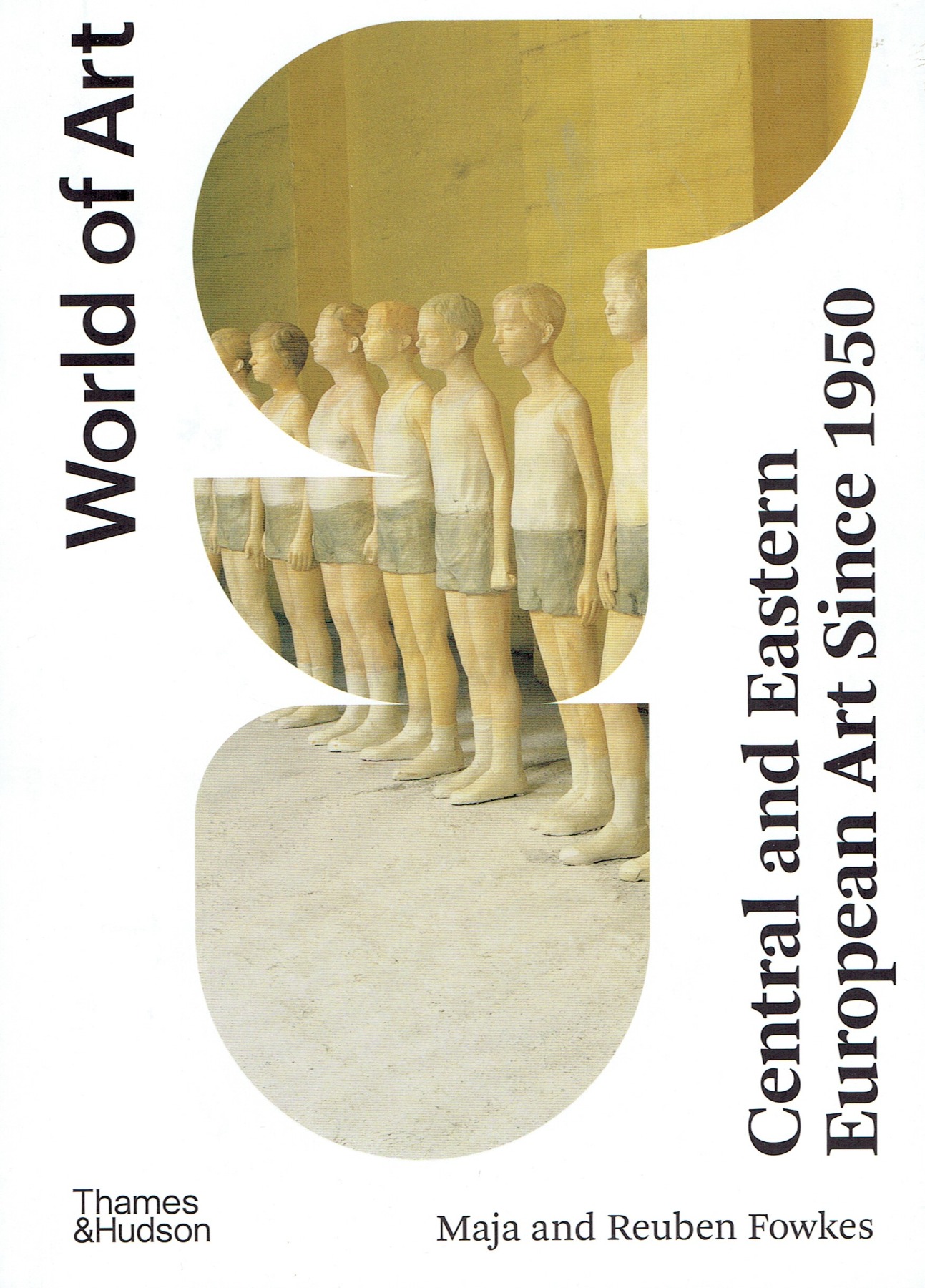
Применительно к этим процессам какое-то время было принято говорить о Глобальном Юге и Глобальном Севере, и с этими двумя мировоззрениями связана определённая образность. Но в своей книге и исследовании вы вводите в игру нового игрока – Глобальный Восток. По каким элементам, символам или визуальным характеристикам мы узнаем Глобальный Восток?
Рубен: Если иметь в виду исторические образы, то это, вероятно, была бы тяжёлая промышленность. Но это довольно провокационный и интересный вопрос, потому что это вполне может быть и что-то ещё.
Майя: Вот почему нас интересует, что может означать социалистический антропоцен. Хотя свидетельства антропоцена в истории окружающей среды ХХ века не вызывают сомнений, это понятие подвергалось резкой критике с разных точек зрения.
Это включает в себя подход к нему как в первую очередь к капиталистическому способу обращения с природой и её организации, а также к последствиям этого. Но затем из Чёрного Антропоцена, Антропоцена Коренных Народов и Расового Капиталоцена возникла очень мощная критика, демонтировавшая такого рода универсализирующую идею антропоцена. И снова стало ясно, что восточноевропейская перспектива, или социалистическая перспектива в этих дискуссиях полностью упускается из виду. Именно поэтому у нас нет простого представления о том, что такое Восточная Европа. Это наводнения и острова, которые уходят под воду на Глобальном Юге, или это тающие льды Глобального Севера? Где образы, говорящие об изменении климата на Глобальном Востоке? На самом деле это то, что мы сами хотим раскрыть, выяснить, рассматривая визуальную культуру региона более конкретно.
Может быть, заброшенные электростанции?
Майя: Да, за этим могут стоять руины социализма.
Рубен: Но это ещё может быть связано с менее заметными вещами, которые также могут представлять Глобальный Восток или Социалистический Антропоцен. С точки зрения…
Майя: …солидарности и восстания, например. Потому что то, что есть в Восточной Европе и чего нет в других регионах, – это понимание того, что систему можно изменить. Если люди выжили в одной системе и перешли в другую, возможно, есть особый опыт, который может придавать им силы.
Рубен: Конец социализма был невообразим до тех пор, пока он не случился, но люди выжили, продолжили свои жизни, и были те из них, кто потом по-настоящему процветал. Нас интересует, какие возможности можно найти в историях социалистического антропоцена. Это довольно сложная область, но мы думаем, что там довольно много того, что нужно раскопать, исследовать и над чем поработать.
Вы видели на этой выставке инсталляцию Staburadze Corallia Линды Большаковой? Там была реконструкция редкой альпийской жирянки, растения, вымершего в Латвии после строительства советской ГЭС на Даугаве. Последние особи этого вида росли на символическом утёсе Стабурагс – геологическом объекте, часто фигурирующем в местной мифологии, скале, олицетворяющей женский дух на берегу Реки Судьбы. Это природное скальное образование теперь затоплено после того, как в 1980-х годах была построена плотина гидроэлектростанции. Моё поколение никогда его не видело. Однако вроде бы прошлым летом группа дайверов исследовала глубинные воды у скалы и заново открыла жирянку – теперь уже как симбиотический организм, приспособившийся к жизни в воде. И что-то… не знаю… какое-то глубокое латвийско-патриотически-феминистско-постколониальное чувство возникло во мне, когда я увидела эту работу. Этот «цветок надежды» – такая сильная метафора выживания в социалистической системе.
Майя: Я думаю, это интересно, и именно поэтому мы считаем очень важным работать с современными художниками. В нашем исследовании социалистического антропоцена мы выступаем как историки искусства, но мы также приглашаем современных художников работать с нами на протяжении всего периода исследований, потому что в современной исследовательской художественной практике художники задают вопросы, они устанавливают связи, и они как бы натыкаются на неожиданные вещи, которые, возможно, пропустили бы простые дисциплинарные исследователи. Современное искусство может очень ярко выявлять эти связи через символы, через нарративы и через различные аспекты, которые оно разрабатывает, и, следовательно, оказывать гораздо более сильное влияние на всю сферу.
Вы можете думать о работе, которую вы упомянули в связи с Латвией, как о микронарративе о растении, пережившем это ужасное преобразование окружающей среды репрессивной политической силой. Но вы могли бы также думать об этом в более общих терминах, т.е. о том, что антропоцен сделал с планетой и устойчивостью самой природы – растения действительно могут адаптироваться, и, возможно, намного лучше, чем люди. Таким образом, более вероятно, что выживут растения, а не животные и люди, что подводит нас к более общим вопросам выживания и адаптации к изменению климата.
Иногда трудно вести этот разговор об изменении климата с широкой аудиторией. В Латвии, например, мы пока не ощущаем негативных последствий глобального потепления, и многие смотрят на эти предупреждения скептически. Когда активисты Just Stop Oil облили «Подсолнухи» Винсента Ван Гога томатным супом, даже самая образованная и информированная часть нашего общества восприняла это как несоразмерно радикальную реакцию. Как вы, исследователи, считаете, могут ли эти действия или протесты способствовать каким-то переменам?
Майя: Я думаю, что существуют неопровержимые научные доказательства – в научном сообществе нет сомнений в том, что изменение климата происходит. Существует также предыстория климатологии в социалистических странах. Ещё в 1960-е годы советские учёные лидировали в плане осмысления глобальных аспектов изменения климата.
С точки зрения науки всё ясно, но также нет сомнений в том, что нефтяное лобби, а также промышленность и те интересы, которые очень тесно связаны с политическими тенденциями во многих странах, препятствуют тому, чтобы научные знания о климате стала доступны для всех. Это преднамеренная форма обструкции, вот в чём проблема. Эту проблему можно решить, бросив вызов доминированию этих промышленных интересов по всей планете, поскольку теперь это стало вопросом выживания.
Активисты, художники, учёные и люди в целом – есть немало тех, кто всё больше осознаёт это, тех, кто делает свой собственный выбор в пользу более экологичного понимания еды, одежды и других вещей… и экологические фестивали, которые происходят во всем мире – они также играют роль в распространении соответствующего понимания. Вы знаете, изменения возможны. Долгое время люди говорили: «О, но один человек ничего не может изменить», но это также явное влияние пропаганды, которая пытается помешать людям принимать активные решения.
Рубен: У такой группы, как Extinction Rebellion, есть очень специфическая теория, согласно которой вам нужно достучаться до 3,5% людей, чтобы реализовать нужные изменения. Речь не идёт о том, что вам нужно достичь 100% – вам не нужно достигать даже 30%. Их теория состоит в том, что 3,5% достаточно, чтобы вызвать переломный момент. Они приводят пример отношения к геям и других видов культурных изменений и отношений, которые сложились и появились в истории. Когда вы достигнете 3,5%, вы действительно сможете добиться этого изменения. Таким образом, вам, возможно, не нужно беспокоиться о том, чтобы охватить каждого человека, достаточно достичь критической массы.
Я как-то написала статью о протестах Just Stop Oil, которые прошли в лондонской Национальной галерее, – в ней я сказала, что, как бы я ни любила искусство, как бы я ни восхищалась им, я всё равно поддерживаю этих «хулиганов» в их активных акциях протеста.
Майя: И мы тоже. Что я имею в виду – существует ли произведения искусства, которые стоит сохранить для будущего, в котором ничего и никого не останется? Какой смысл?
Вы написали статью под названием «Никакого искусства на мёртвой планете».
Майя: Точно. Да. Для чего всё это? Люди на самом деле не понимают масштабов экологических проблем и того, куда мы движемся.

Теоретик Борис Гройс когда-то писал, что арт-активисты хотят изменить мир, хотят быть полезными, сделать мир лучше – но в то же время они не хотят перестать быть художниками, которые создают произведения искусства, товар для рынка искусства.
Майя: Это его мнение, но я не могу с ним полностью согласиться. Очевидно, что есть художники, которые хотят оставаться художниками и желают участвовать в экономике искусства. Но есть много художников, которые на самом деле действуют в ущерб собственной художественной практике, говоря: «Я не хочу создавать больше арт-объектов, я не хочу участвовать в международных художественных тусовках, потому что они способствуют вредным выбросам и неэкологичности искусства». Есть так много художников, которые предпринимают решительные действия и не убегают, даже говорят: речь идёт уже не о моём собственном творчестве, а о том, чтобы объединиться и создать более устойчивый образ жизни и мышления, выходящий за рамки просто искусства.
Рубен: Не только художники, но и арт-институции в каком-то смысле говорят, что пути назад нет. Как только вы объявляете чрезвычайную климатическую ситуацию, как это сделали многие культурные учреждения и музеи в 2019 году (году объявления чрезвычайной климатической ситуации), вы должны довести её до конца. И это меняет характер того, как работают учреждения или музеи – они пытаются сократить число свои авиаперелётов, они думают об экологических последствиях своих приобретений, например, задаются вопросом: должны ли мы покупать произведение искусства, для которого нужны лампочки определённого типа, связанные с серьёзными вредными выбросами? И так далее. Также произошли изменения в упаковке – нужно ли нам использовать большие куски полистирола для упаковки произведений искусства перед их перевозкой? Можем ли мы найти более устойчивые и безвредные способы сделать это? Или вот как выставка, которую мы видели вчера, где было решено не использовать гипсокартонные плиты для разделения экспозиционного пространства. Всё это происходит не только символически, что тоже немаловажно, но и вполне практически.
И я надеюсь, что цитата Гройса устарела. Но разве те художники и их подходы, которые вы описываете, не относятся скорее к Великобритании?
Майя: Нет, я имею в виду словацких художников. Я думаю о венгерских художниках. Я думаю о Диане Лелонек, которая выставлялась на «Деколониальной экологии» и которую мы пригласили выступить в Лондоне, – она приехала поездом из Польши, так как она не хотела лететь. Так что это не только западные художники.
Хорошо, давайте закончим наш разговор на этой позитивной ноте.
