
Картография 2020-го. Взгляд через плечо
Это был поразительный год. Хотя бы потому, что мы все в нём изменились. Мы все начали его совсем другими и смотрели на вещи другими глазами. Вот и публикации Arterritory за этот год – красноречивые свидетельства изменения настроений и осознания реальности (как и места и роли искусства в этой реальности). Завершая 2020-й, мы решили посмотреть на ключевые материалы всех 12 месяцев и выбрать из них самые важные, на наш взгляд, мысли. Это очень своеобразная картография года с сильным перепадом эмоций и остроты момента в марте, невесёлыми размышлениями первого локдауна, надеждами и событиями весны и лета, настороженностью осени и спокойной решимостью зимы преодолеть новую толику испытаний. Интересный, важный и сложный год, который мы будем обязательно вспоминать и обдумывать снова. Давайте попробуем сделать это вместе.
ЯНВАРЬ

Статья Кирилла Кобрина о выставке «Неназначенные встречи»
«Наши сны всё чаще навещают призраки былых будущих, тех, о которых мечтали, которые строили, а потом бросили, как какой-нибудь советский рыбоперерабатывающий завод в Вентспилсе. А пустые строения старого несбывшегося грядущего, битком набитые первыми синтезаторами, моделями космических кораблей, брошюрами Римского клуба, растрёпанными покетбуками со словами „Брэдбери”, „Ефремов”, „Стругацкие” на выцветших обложках, так и остались где были, на пустырях нашего мира, иногда являясь к нам, тревожа сны, как призраки коммунизма из марксового „Манифеста”».

«Перед нами ведь только изделие, которое копирует нас и наши жесты, неминуемо вызывающие эмпатию – основу нашего сопереживания, да и основу любого театрального действия тоже. Робот опускает глаза – и вам грустно, он показывает на вас, и вы чувствуете, что к вам обращаются. И вы задумываетесь: „Почему, зная, что это робот, я не могу остановить в себе эту эмпатию?” И это приводит нас к вопросу – а как, каким образом на самом деле запрограммированы мы сами?»
ФЕВРАЛЬ

Разговор в Риге с Антоном Видокле, организатором e-flux и создателем фильмов о русском космизме
«Наверное, я буду делать ещё один фильм именно на эту тему: когда мы все будем бессмертны – люди, животные, микроорганизмы, – что мы будем делать со своим бессмертием? Идея Фёдорова заключалась в том, что если люди могут думать, чувствовать, если у нас есть сознание, то наша обязанность – научить сознанию неорганическую часть Вселенной. Научить атомы думать, сделать всю Вселенную сознательным организмом, связанным между собой. Такой вселенский анимизм. И когда вся Вселенная станет этим единым осознающим существом, она окажется идентичной Богу. Она его не сместит, но она станет божественной… Довольно большой проект, и для него действительно нужно бессмертие, потому что Вселенная очень большая. Обучать этот стакан (берёт в руки стакан) чувствовать – это довольно сложно».

Разговор в Варшаве с польским коллекционером современного искусства Петром Базылко
«Мне кажется, что смотреть на польское искусство с точки зрения контекста Восточной и Центральной Европы – это и интересно, и довольно естественно. Несмотря на отличия, у нас всё ещё много общего. Во-первых, коммунистическое прошлое. Во-вторых, позиция женщины – благодаря той роли, которую она стала играть при социализме. В-третьих, капитализм в американском стиле в 1990-х. Мы все его застали… Поэтому попытка думать регионально – это хороший первый шаг в сторону ещё более глобального подхода».
МАРТ

Статья Кирилла Кобрина «Искусство во время чумы: последний сезон»
«…Нелепость нынешних попыток сделать вид, что коронавирус не так страшен, что вообще это всё мелкие неприятности, что business as usual. Нет, отнюдь не as usual. Дело не в относительно скромном количестве умерших и заболевших (относительно численности населения Китая и всего мира, конечно). Просто в который раз человечество сталкивается с чем-то, что только отчасти является зависящим от него, с чем-то из ряда вон выходящим; каждое из такого рода столкновений даёт нам возможность остановить автоматизм наших поступков, слов, вещей, ритуалов, сделать паузу, увидев пустоту там, где ещё недавно было не протолкнуться».
Эрнесту Нету в одном из самых первых выпусков рубрики «Что сейчас делают художники?»
«Невидимый вирус просто внезапно остановил нас. Что-то стало важнее зарабатывания денег: жизнь, старая-добрая, волшебная и прекрасная жизнь, везде и всюду, и у нас есть время сидеть дома и читать книги, проявлять заботу и играть в игры с семьёй. Мы все разделены, но в то же время все вместе. Это за пределами культуры; это природа, которая соединяет нас вместе, показывает нам, что есть что-то ещё, что-то большее, чем мы».

Дмитрий Гутов в рубрике «Что сейчас делают художники»?
«А как вообще на коронавирус реагировать с художественной точки зрения? „Memento mori? Помни, что жизнь коротка и хрупка?” Но в принципе все вменяемые люди должны об этом всегда помнить. Если говорить о переменах, я думаю, что культура сейчас будет востребована в гораздо большей степени. Люди уже не могут прожигать жизнь по клубам, барам и ресторанам. Начинают слушать лекции в сети, ещё что-то. В общем, происходящее должно сработать отрезвляюще. Юмора поверхностного поубавилось. Главная тема всех разговоров – Путин и его фокусы – тоже отошла на задний план… И стало слышно дыхание вечности».
АПРЕЛЬ

Статья Сергея Хачатурова «Пёстрая лента»
«В Москве большинство детских площадок, скверов и парков обнесены заграждениями и обтянуты сигнальной бело-красной лентой ЛСО. Безвестные стражи порядка выступают сегодня крутейшими художниками-концептуалистами. Каждый перетянутый пёстрой лентой сквер, каждая детская площадка становятся артефактом на тему „искусство как улика преступления”».
Комментарий Виктора Мизиано «К эпохе катастроф»
«Нынешняя катастрофа – предприятие разорительное, поэтому скорее рано, чем поздно чрезвычайное положение будет снято. Что же будет после конца? Многие (если не большинство) склонны считать, что мир после него будет совсем другим. Признаться, я так не думаю. Конечно же, те компенсаторные формы, которые общество и культурная сфера включили для восполнения блокировки нормальной работы – я имею в виду, к примеру, уход из офлайна в онлайн, – это интересный опыт, из которого можно сделать ряд очень полезных выводов. Но я бы не преувеличивал эту новую значимость онлайн-работы, хотя наверняка впоследствии, когда в полной мере вернётся офлайн, онлайн будут задействовать чаще, чем раньше. Но думаю, что когда возвращение в офлайн станет возможным, то и культурный, и образовательный мир захочет вновь насладиться им в полной мере, он вновь оценит преимущества личного контакта преподавателя с учеником, куратора с художником, художников между собой и т.д.»

Московский галерист Сергей Попов в рубрике «Как подготовиться к будущему?»
«После карантина многое будет иначе – и это не только социальная дистанция, но, например, и соображения о запасе и распределении ресурсов, любых – финансовых, позиционных, информационных. Будет меньше международной коммуникации, которая ещё недавно была столь лёгкой, – но её станет больше онлайн. Уходит наносное, остаётся сущностное».

«На мой взгляд, эта пандемия, несомненно, кардинально изменит мир искусства. Уже сейчас очевидно, что многим художественным институциям придётся закрыться или радикально пересмотреть свой modus operandi, и многим художникам, критикам, кураторам, педагогам и писателям придётся непросто. Коронавирус также явился явным предупреждающим сигналом о приближении климатического кризиса; степень нашей зависимости от путешествий, а также наши способы организации выставок должны быть пересмотрены. Синергизм мира искусства с глобальными взаимосвязями и выставками блокбастеров должен претерпеть изменения».
МАЙ

«У меня был такой очень странный опыт. Ко мне пришёл один мой приятель в гости, актёр, с которым до этого мы всё время по Zoom’у общались, в течение двух месяцев. И это удивительное ощущение, когда ты воспринимаешь его реального – как нереального. Когда ты настолько привык видеть его на экране компьютера, что вот он вдруг появился вживую, и непонятно, как к этому относиться – как будто голограмма какая-то. И это было удивительное ощущение, когда нормальное становится ненормальным, а ненормальное – вполне нормальным. Такие вещи могут измениться очень легко, на раз».
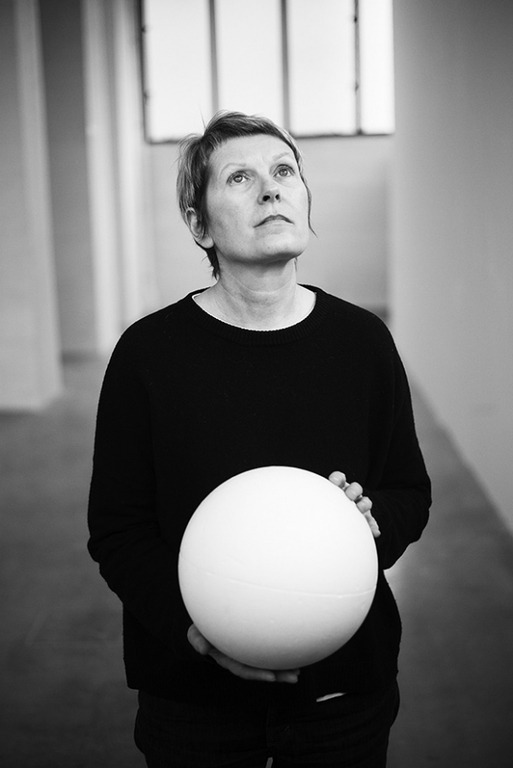
Интервью с бельгийской художницей Эдит Декиндт
«Мы зависим от многого – от минералов и растений, мы зависим от земли, почвы. И это и есть экологическая система, в которой мы живём. Это не та абстрактная экология, о которой говорят политики. Экология – это может быть что-то совсем маленькое, вот в этой бутылке воды – это экология. Само это слово теперь используют для всего подряд – eco-pack, eco-bag. Но экология – это просто система, которая по своей сути – жива. Вот первоначальный смысл этого слова. Теперь мы используем его всюду и не слишком точно».
ИЮНЬ

Московская арт-группа сrocodilePOWER в рубрике «Что сейчас делают художники?»
«Мы очень быстро ощутили, что новостная лента буквально подтачивает наше самочувствие, и снизили просмотры новостей до минимума. Пару Телеграм-каналов, чтобы быть в курсе, пару каналов, чтобы посмеяться, мессенджер для общения с европейскими друзьями-коллегами и Инстаграм для вдохновения. Мы практически полностью погрузились в работу и общение с ребёнком. Чувство тревоги, конечно, не исчезло до конца, но осталось где-то в другом измерении, это одна из суперспособностей, которыми обладают творческие люди и художники особенно, – возможность перехода из обыденной жизни в пространства, где обитают идеи».

«Мир искусства должен осознать, что существуют параллельные миры художников, которые уже давно отказались от иерархической, вертикальной и непроницаемой системы искусства и его институций и нашли убежище, каналы коммуникации (а также арт-рынка) в виртуальной и реальной микросредах или же сумели хорошо замаскироваться в среде поп-культуры, рекламы и дизайна. Это будущее искусства. Именно здесь происходят самые интересные вещи».
ИЮЛЬ

Статья Валентина Дьяконова о выставке «Ненавсегда», посвящённой искусству эпохи застоя
«Свободное время, впервые нарисовавшееся в таких количествах после двух войн, революции, индустриализации, агрогородов и прочего, было потрачено на то, чтобы смотреться в бездну культуры и оттачивать навыки стилизаторского перевоплощения. Союзником в этом процессе для художников стал „вещизм”, любовь к (запретным) товарам и коллекционированию».
АВГУСТ
Разговор с художником Юрием Альбертом (Москва–Кёльн)
«Обычно понимание того, что такое искусство, является более-менее общим для каких-то стран и эпох – и мы называем это древнекитайским, средневековым или современным искусством; или для групп современников и единомышленников – и мы называем это направлениями в искусстве: романтизм, импрессионизм, поп-арт и так далее. Каждое направление и тем более тип искусства базируется на общем для какой-то группы людей определении искусства. В наше время, когда одновременно существует множество этих течений, а также разных техник и жанров, приходится каждый раз заново, самостоятельно и под свою ответственность решать, искусство ли то, что мы видим».

«Когда началась пандемия, это стало поразительной иллюстрацией того, как вся наша супермощная цивилизация может быть поставлена на колени самым малюсеньким существом на планете. Это возвращает нас на землю и выбивает почву из-под ног у позиции человеческой исключительности. Мы все – часть чего-то большего, и только все вместе мы что-то значим… Это очевидно, насколько современные люди проникнуты идеями здорового образа жизни и исцеления наших тел, но, как мне кажется, в не меньшей степени в исцелении нуждаются наши разумы. Феликс Гваттари в своих рассуждениях об экологии говорит об этом так: ничего не изменится, пока мы не займёмся сначала самой первой экологией – ментальной. Пока мы не научимся понимать прямые последствия наших собственных действий».
СЕНТЯБРЬ
Разговор с эстонской художницей Фло Касеару
«Мне кажется, что в Эстонии между художником и публикой нет активного диалога. Если бы для возникновения дискуссии было достаточно живописи на стенах галереи, я бы, наверное, занималась живописью. Но сейчас я ищу диалог с публикой при помощи работ, предпринимающих некие социальные интервенции, где в качестве художественного материала выступают нередко сами люди. Также мне порой нравится помещать зрителя в не совсем удобную, интригующую ситуацию, в которой он сам становится частью произведения. Очевидно, я подсознательно ищу способы, как избежать нейтральной экспозиции в зале, активизировать взаимоотношения произведения, пространства и зрителя, создав перформативную выставочную среду».

Разговор с куратором 11-го выпуска фестиваля Survival Kit Катей Крупенниковой
«Я не экономист и не политик, по крайней мере пока. (Улыбается.) Но мне кажется, что нам нужно абсолютно пересматривать модель взаимоотношений, в первую очередь экономическую модель. Пандемия показала, насколько легко можно перейти из привычного комфортного состояния в очень неприятную и уязвимую ситуацию. Мне кажется, надо создавать какие-то сообщества на микроуровне. Потому что уже понятно, что государство на своём уровне не всегда может помочь, или не в том объёме, как хотелось бы, или не тем, кому эта помощь нужна прежде всего, – то есть тем, кого оно считает „нерентабельными”. Поэтому нам нужно пересматривать отношения соседства».

Разговор с немецко-американским антропологом Тобиасом Рисом
«Я думаю, вполне можно сказать, что неопределённость – это фирменный знак нашего времени. Но можно ли это назвать новой моделью? Я не знаю. Термин „модель” вызывает у меня ощущение двойственности. Почему? Потому что это звучит так, как будто кто-то пытается предложить грандиозный ответ для жизни: модель. Я не хочу быть претенциозным. Одна из форм непритязательности может заключаться в том, что никто не станет предлагать новую, универсальную замену: переход от одной модели к другой. Вместо этого меня интересует исследование возможностей – в идеале совместно с другими людьми – для того, чтобы попробовать быть человеком по-другому. Я думаю, что многое зависит от того, как философы, художники, поэты и в конечном счете технологи окажутся способны создать возможности для превращения неопределённости в необходимое условие хорошей жизни. Возможно, я мог бы сказать, что нужна не модель, а широкий набор примеров, исследований, инструментов и даже наборов инструментов – в идеале таких, которые при этом не складывались бы в целом в нечто последовательное».
ОКТЯБРЬ

Разговор с режиссёром Кириллом Серебренниковым
«Люди хотят обрести смысл своего существования. Отсюда, кстати, происходят все „теории заговора”, цель которых – найти причинно-следственную корыстную связь всего со всем. Конспирология – это попытка построить систему координат, во главе которой стоит некая абсолютная воля. Мы ведь очень боимся случайности. Искусство пытается объяснить причинно-следственные связи своим, иным способом, дать свои законы существования мира».

Разговор с латвийским художником Андрисом Эглитисом
«Кажется, сколько я себя помню, меня всегда интересовал… я это, возможно, даже не назвал бы природой – скорее, мир за пределами цивилизации. Чтобы через него как-то и понять нашу цивилизацию и культуру. Скорее всего, это есть и такие несколько экзистенциальные поиски – может ли человек вообще существовать вне сетей цивилизации? И нужно ли это, и насколько нужно?»
НОЯБРЬ

«В наше время сознание полностью взяло под контроль подсознание, о котором столько рассуждал Фрейд. Я бы сказал, что нам надо как-то человека раскрепостить и вернуть его иррациональность. Но при этом, конечно, не возвращаться к таким вещам, как насилие мужчин над женщинами. Можно ли нам вернуть себе немножко иррациональности, но при этом быть хорошими? Вот в этом, как мне кажется, и может заключаться ключевой вопрос современности».

Статья Валентина Дьяконова о выставке «Закрытая рыбная выставка. Реконструкция»
«Концептуализм в России и есть современное искусство. И с самого начала его развёртывания в 1970-е он ввёл два важных тактических момента, обеспечивших ему непотопляемость, – персонажность и альтернативную бюрократию. И в том, и в том всё ещё есть нужда. В персонажности оттого, что для высказывания от первого лица требуется развитая субъектность, которая остаётся дорогим и утончённым удовольствием даже для уровневых культурных деятелей. В бюрократии оттого, что россыпь наших частных и государственных институций не выработала почти ни в одной из своих точек пластичные критерии согласия с художественным процессом. И то, и то связано с тем, что мы всё ещё колониальные субъекты, вынужденные строить что-то в неопределённости и обеспечивать крепость построек выдуманной валютой из „Концептополии”».
Статья Никиты Кадана о живописи Юрия Лейдермана
«Когда овалы, ветви, мудаки, волны, народные орнаменты, диктаторы, друзья юности настолько трепетно-изменчивы, настолько лишены утверждённых мест, то происходить это может лишь по отношению к некой неизменной координате. Она находится скорее в этическом поле, но определяет то, что происходит в поле эстетическом. Она похожа скорее на личное решение, чем на всеобщий закон. Она похожа скорее на вопрошание, но её невозможно свести лишь к вопрошанию. Оставляю этот ряд открытым».
ДЕКАБРЬ

Разговор с эстонской художницей Марией Капаевой
«Мне интересно, как мы легко оперируем понятиями „пропаганда” или „стереотипы”. И я стараюсь в них разобраться – что это такое, давайте посмотрим. В нашем геополитическом контексте пропаганда ассоциируется с советским прошлым. Но мы забываем, что и сами живём в эпоху пропаганды, на разные виды которой, включая рекламу, мы в определённой степени покупаемся. Мне как раз интересно раскладывать этот язык: стереотипы, как должны выглядеть женщины. Как должна или не должна выглядеть советская героиня или женщина после сорока. В основном это визуальный язык: кино, фото, картинки».

Экспресс-интервью с Кристой Мёльдер о её выставке «You were a bird»
«Если я остаюсь дома и концентрирую свою энергию, когда-нибудь она вернёт меня в состояние полёта. Но до этого мне надо сначала, может быть, выпить чашку чая».
Верхнее изображение: Artūrs Virtmanis. In The Dust Of This Universe/The Black Sun. 2020. Уголь, бумага, графит